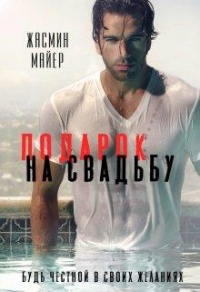Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Данни – корпоративный юрист. Она верит в магию чисел, четкие планы и в то, что, если упорно трудиться, можно получить желаемое: работу, квартиру, достойную жизнь. Инвестиционный банкир Дэвид вот-вот сделает ей предложение, и Данни собирается замуж, получает должность мечты… Все идет по плану, пока Данни не видит удивительно похожий на реальность сон, действие которого происходит через пять лет. В этом сне она замужем за другим человеком.Теперь у девушки остается пять лет, чтобы не повторить известный ей одной сценарий.На русском языке публикуется впервые.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ребекка Серл»: