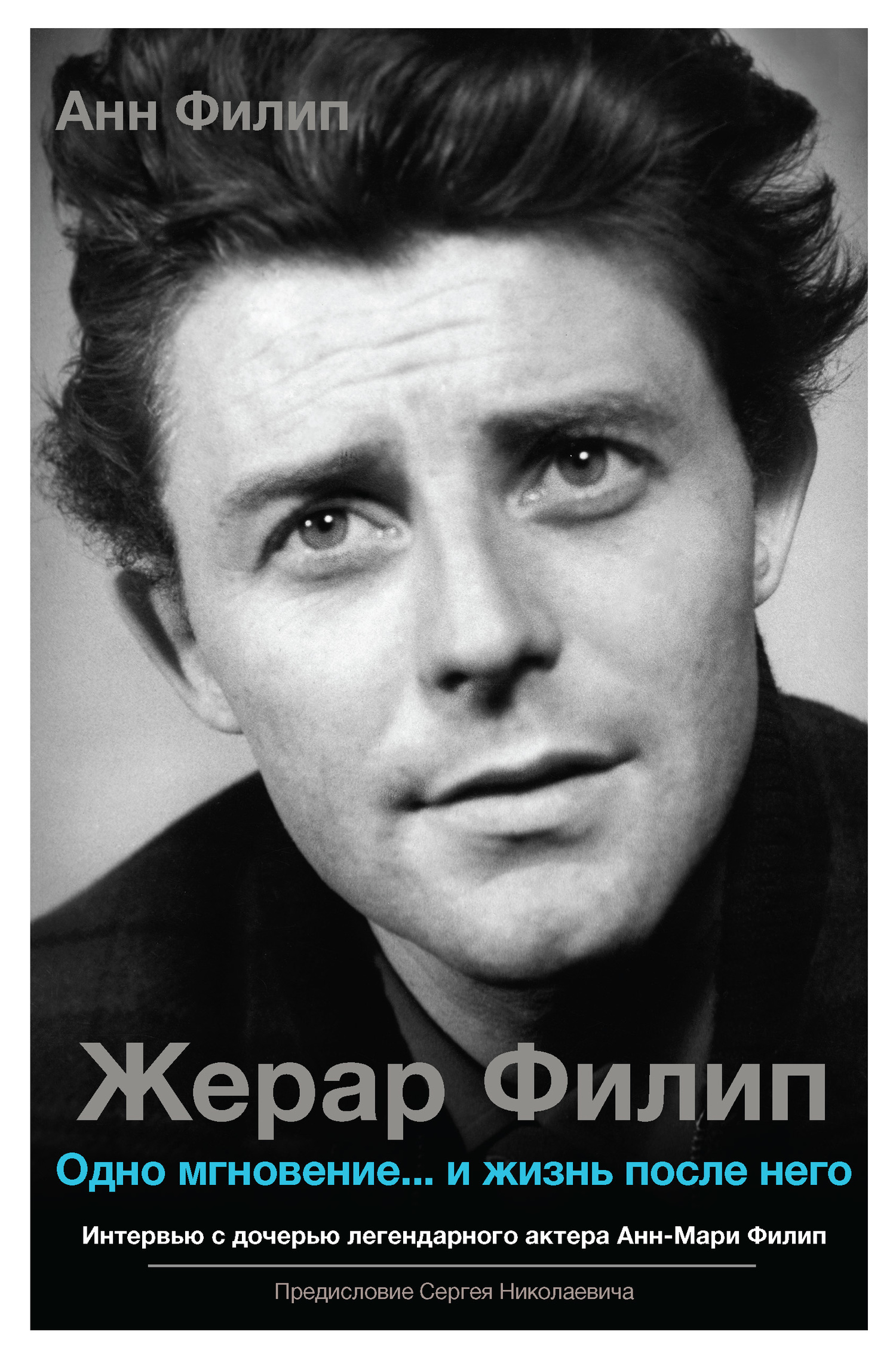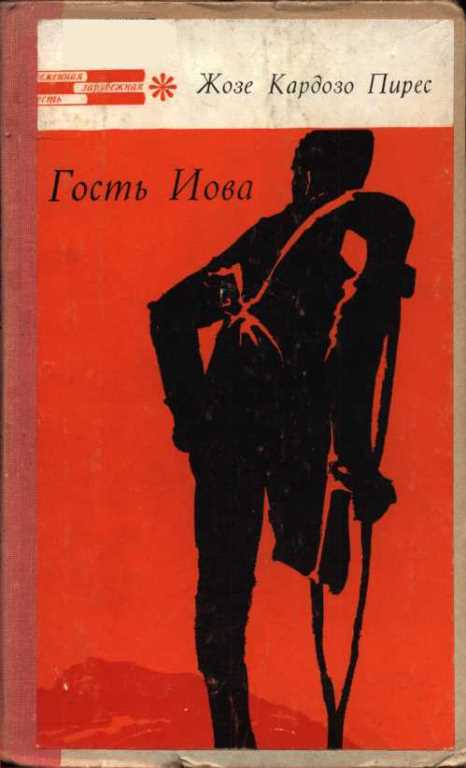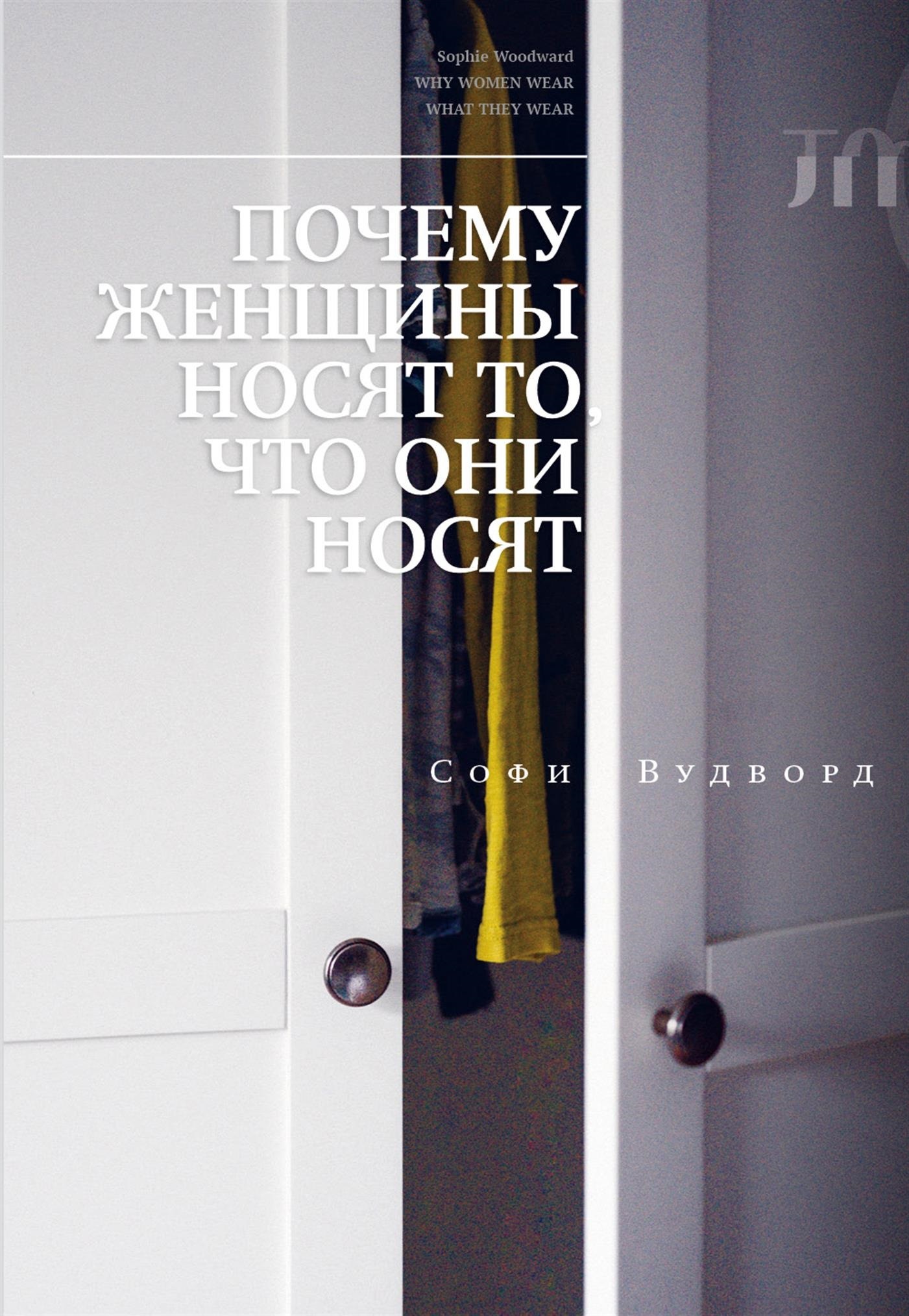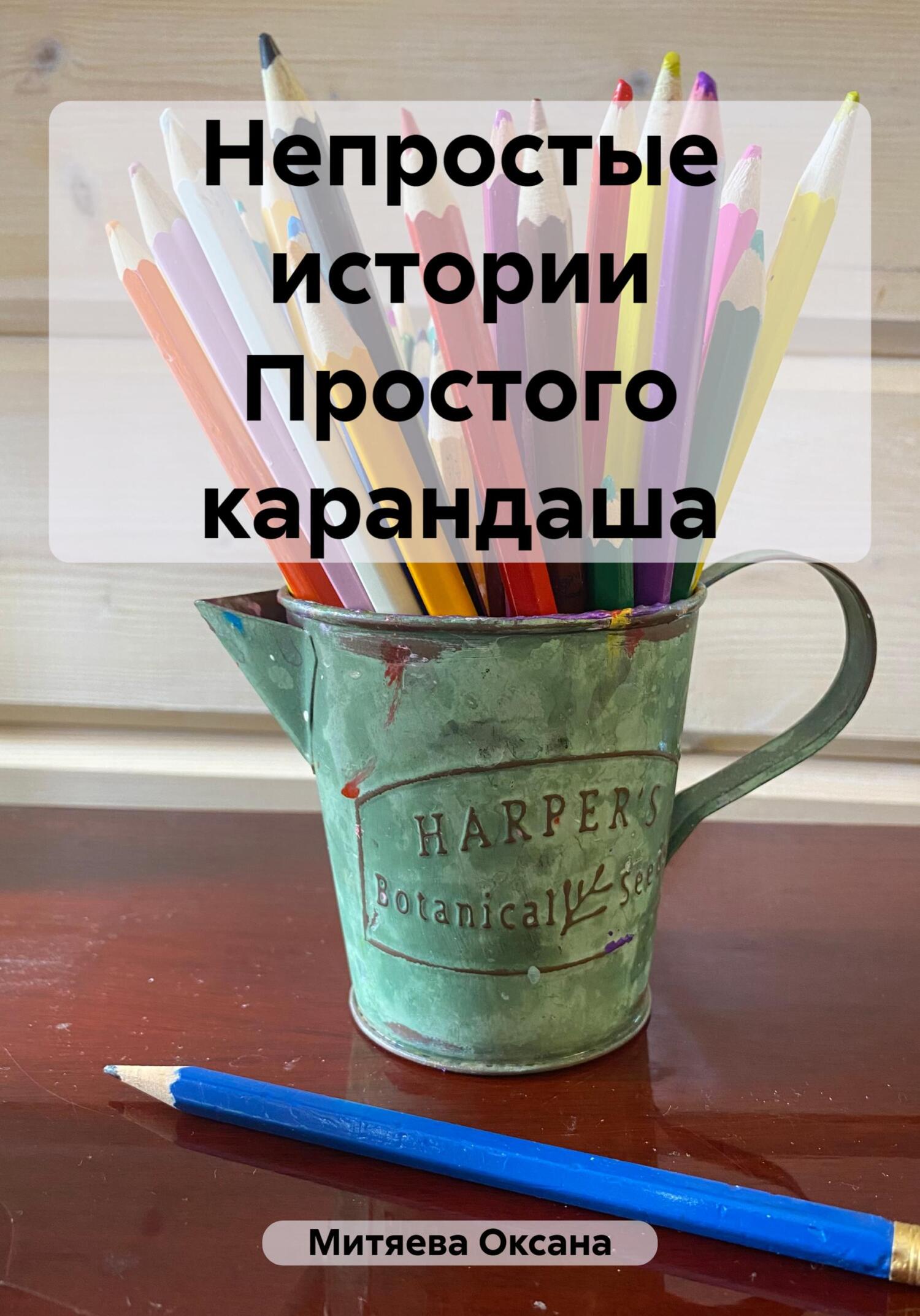Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Лирическая повесть известной французской писательницы посвящена трагическим судьбам людей, не защищенных от потрясений и бед современного буржуазного мира. За внешне невозмутимым, простым рассказом о нескольких неделях летнего отдыха у моря встает тревожное ощущение опасности, нависшей над этим, казалось бы, безмятежным мирком, раскрывается иллюзорность спокойствия и благополучия героев.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Анн Филип»: