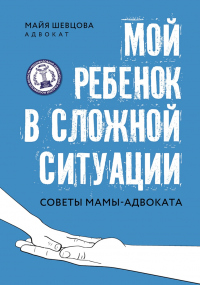Шрифт:
Закладка:
Мари Фредрикссон (1958-2019) – шведская певица, композитор, солистка знаменитой группы Roxette, прославившейся благодаря таким хитам, как «Joyride», «The Look», «It Must Have Been Love» и «Listen to Your Heart». В 2002 году у неё обнаружили опухоль головного мозга. Несмотря на тяжёлые последствия лучевой терапии, Мари продолжила музыкальную карьеру и даже вернулась на сцену.«Я лишь хочу рассказать о том, как всё было. Без прикрас. Чистую правду». Именно так Мари Фредрикссон описала идею этой книги журналистке и писательнице Хелене фон Цвейгберг.В этой книге слово предоставлено Мари Фредрикссон, её родным и близким. На этих страницах – рассказ о большой любви, бездонной печали, невероятном успехе и реванше, взятом вопреки всем превратностям судьбы. И всё это лишь благодаря огромной любви к жизни.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.