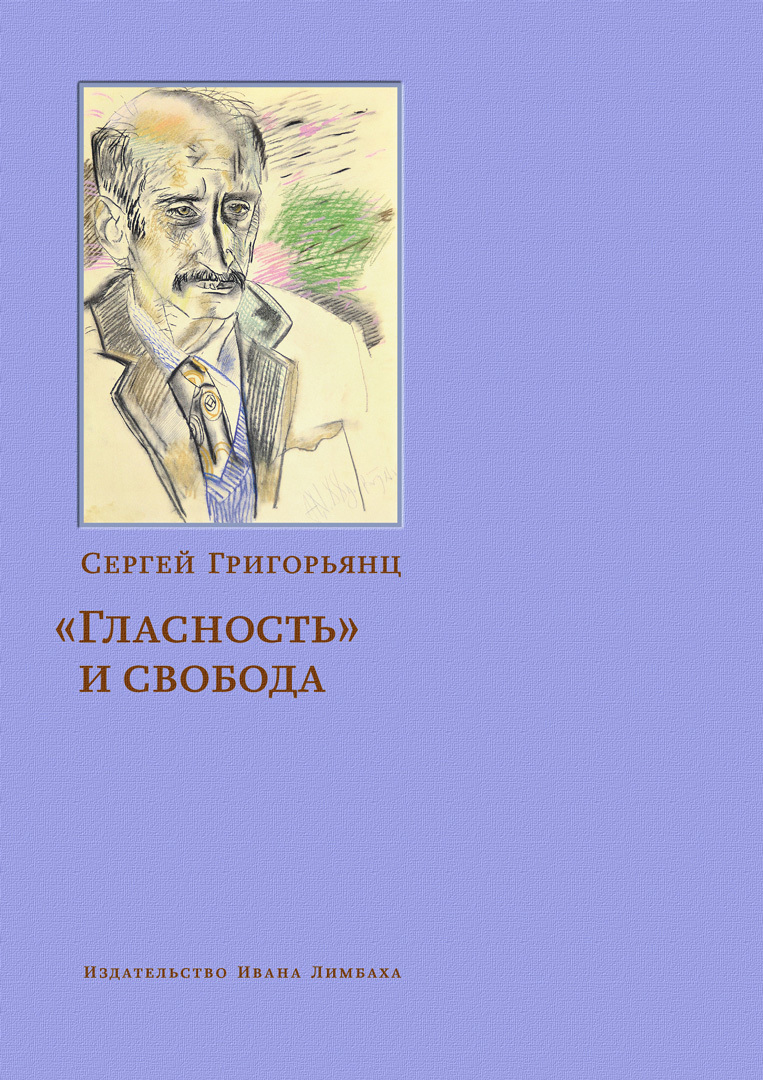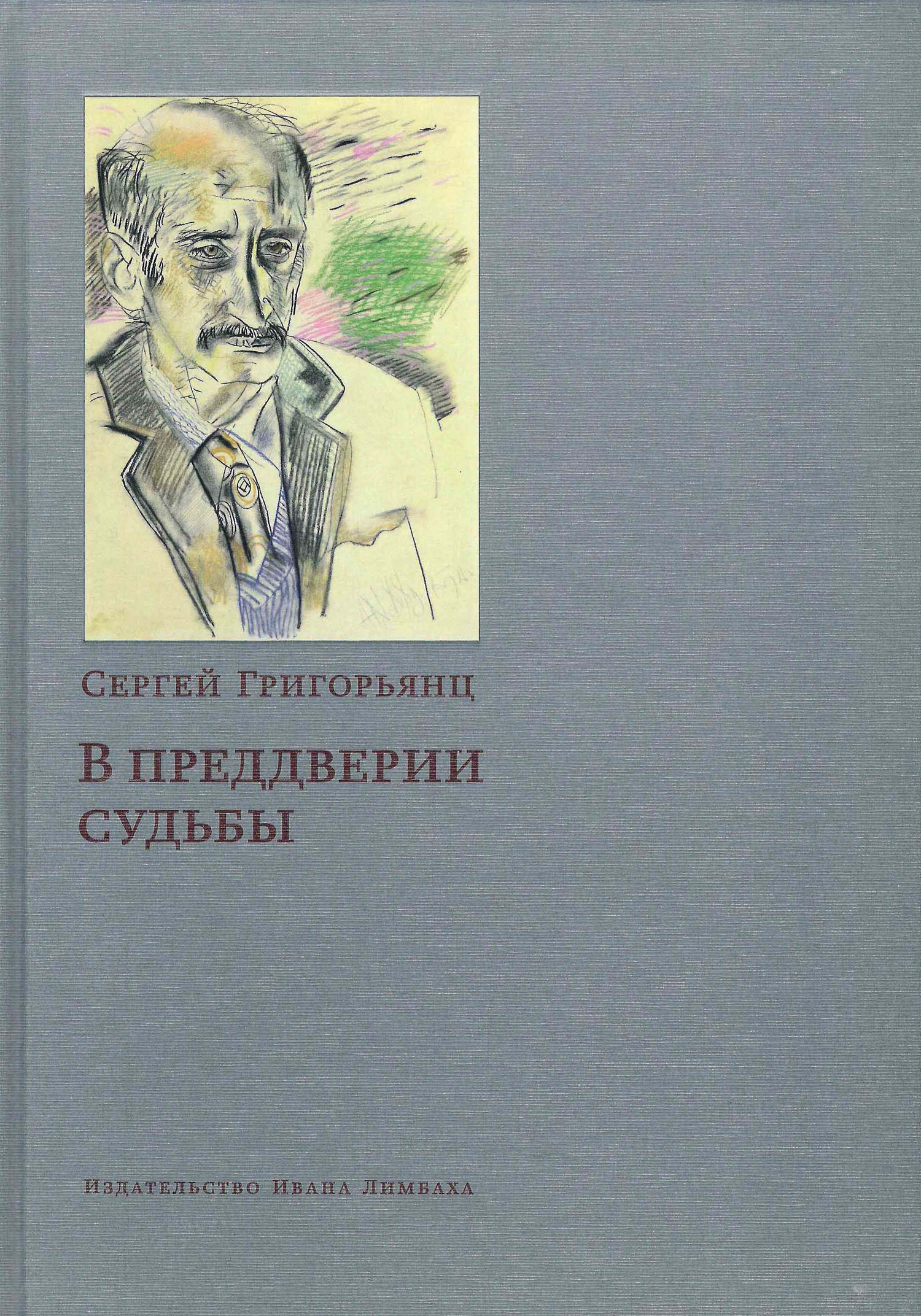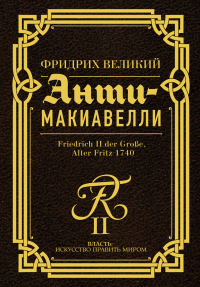Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Первая книга автобиографической трилогии журналиста и литературоведа, председателя правозащитного фонда «Гласность», посвященная его семье, учебе в МГУ и началу коллекционирования, в результате которого возникла крупнейшая в России частная коллекция произведений искусства. Заметную роль в повествовании играют художник Л. Ф. Жегин и искусствовед Н. И. Харджиев, с которыми автора связывало многолетнее плодотворное общение. С. И. Григорьянц описывает также начало своей политической деятельности и дружбу с Виктором Некрасовым, Сергеем Параджановым, Варламом Шаламовым и Еленой Боннэр.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Иванович Григорьянц»: