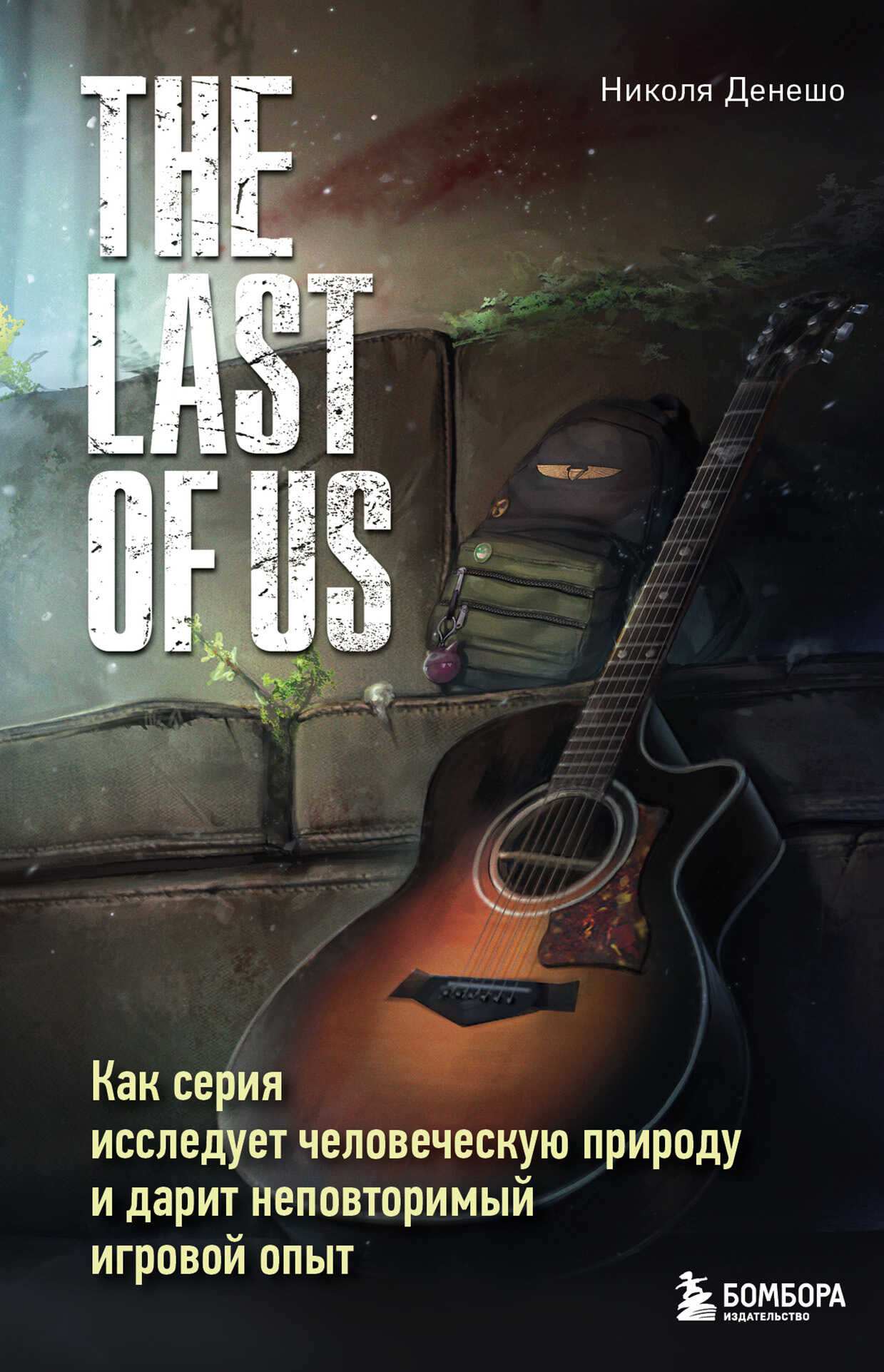Шрифт:
Закладка:
Он – мой муж. Я – его пленница.ЛОНГ-ЛИСТ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ КИНЖАЛ», ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ THEAKSTONS «ЛУЧШИЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН ГОДА».«НАПРЯЖЕННЫЙ И СОВЕРШЕННО ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ТРИЛЛЕР, ИССЛЕДУЮЩИЙ СТОЙКОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА ДАЖЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕПОСТИЖИМОГО ЗЛА». – PUBLISHERS WEEKLYОн зовет меня Джейн. Но это не мое настоящее имя…Уже семь лет как моим новым домом стала одинокая ферма среди бескрайних полей. Кажется, именно в таком месте человек должен чувствовать себя по-настоящему свободным. И все же я в ловушке. Никто не знает, как я попала в Англию. Никто не знает, что я здесь.Муж следит за каждым моим шагом: по всему дому развешаны камеры, а двери всегда должны оставаться открытыми. Есть четкие правила. Их нужно безукоризненно выполнять, иначе он сожжет мои сокровища. Я стараюсь изо всех сил соблюдать эти правила, ведь у него уже была жена, другая Джейн, до меня… И я боюсь даже представить, что с ней стало.Долгое время побег казался невозможным. Но кое-что изменилось. У меня появилась причина жить и бороться. Теперь и я наблюдаю за ним. И жду…«По-настоящему душераздирающая книга». – THE GUARDIAN«Напряжение усилилось до такой степени, что мне пришлось проверить свой пульс». – Лиз Ньюджент, автор мирового бестселлера «Странная Салли Даймонд»«Я не могу вспомнить, когда в последний раз читала книгу, которая была бы такой динамичной, тревожной, захватывающей, пугающей, трогательной и гениальной… Напряжение было таким мучительным… Она заслуживает того, чтобы стать номером один, она заслуживает, чтобы по ней сняли фильм, она заслуживает наград. Моя книга года, а ведь еще только февраль». – Лайза Джуэлл, автор мировых бестселлеров «Опасные соседи» и «Ночь, когда она исчезла»«Я не мог оторваться от нее. Книга – настоящий ночной кошмар с одним из самых жестоких злодеев, с которым я сталкивался за долгое время». – Стив Кавана, автор триллера «Тринадцать»«Невыносимо напряженное чтение с невероятным стилем». – Рагнар Йонассон, автор мировых бестселлеров, прославившийся серией триллеров «Темная Исландия»«Этот выдающийся триллер Уилла Дина, возможно, станет лучшей книгой, которую вы прочтете в этом году. "Пусть все горит"» – напряженная, мрачная и совершенно леденящая душу история, – я прочувствовала ее до глубины души». – Дженнифер Хиллер, автор мирового бестселлера «Маленькие грязные секреты»«Краткий, резкий, шокирующий». – THE TIMES«Невозможно оторваться… один из первых претендентов на звание лучшей книги года». – Daily Express S Magazine«Я не могла оторваться от этой книги! Блестяще написано». – Дениз Мина, автор остросюжетных романов«Выдающийся. Лучший триллер за многие годы». – Мартина Коул, автор остросюжетных романов«Это блестящее, леденящее душу описание жизни на задворках общества. Я прочла ее за один присест, и мне понравилась каждая секунда этой книги вместе с героями. Убедительная, ужасающая и захватывающая, написанная с таким состраданием и самообладанием книга, ставшая, вероятно, лучшей, прочитанной мной за год». – Джейн Кейси, автор остросюжетных романов«От этого душераздирающего чтения невозможно оторваться. Зловеще, жутковато и великолепно написано». – Дэни Аткинс, автор бестселлеров«Одна из самых напряженных книга, которые вы когда-либо читали». – Fabulous«Захватывающе тревожный новый page turner от мастера саспенса Уилла Дина». – Grazia«Колоритная атмосфера, блестяще прорисованные персонажи… Вызывающая клаустрофобию, мучительная, но в то же время вдохновляющая, эта книга не для слабонервных. Ее трудно читать, и от нее трудно оторваться». – The Press Association«Живо написанный… мощный триллер». – The Irish Times«По-настоящему пугающее, выбивающее из колеи произведение, которое стоит прочитать за один раз… Великолепный сюжет». – Woman’s Way«Эта душераздирающая и очень актуальная история не даст вам покоя». – Heat«Мы не могли оторваться от этого напряженного романа». – Bella«Производит сильное эмоциональное впечатление… выворачивает наизнанку». – Peterborough Telegraph«75 лучших книг 2021 года: мрачная, но блестяще написанная история о притеснениях, пытках и порабощении, которая заставит вас перелистывать страницы до поздней ночи». – The i online«Уилл не просто создает интригу, он окутывает ею свою историю». – Culture Fly«Первый самостоятельный триллер Уилла Дина – это вызывающий клаустрофобию и тревожный роман, который в равной степени душераздирающий и захватывающий… Не для слабонервных, Уилл Дин написал потрясающее и заставляющее задуматься произведение, которое найдет отклик даже у закоренелых сторонников жанра». – SHOTS«Как образец продолжительного домашнего террора, эта книга великолепна и заслуживает того, чтобы стать классикой наряду с "Коллекционером" и "Мизери"». – Strong Words Magazine«Ужасающая и сильно эмоциональная, это также мощная история о силе и решительности, которая одновременно пугает и вдохновляет. Определенно должна попасть в ваш список для чтения в 2021 году». – Sunday Independent«Один из лучших триллеров, которые я читал за последние годы». – The Observer«Чрезвычайно напряженная… история о выживании в ее самой фундаментальной форме, но, более того, она рассказывает об огромной силе человеческого духа». – Culturefly, Лучшая книга 2021 года«Своевременный и незабываемый триллер "за запертой дверью"». – Daily Express, Лучшая книга года по версии обозревателя Энн Кейтер