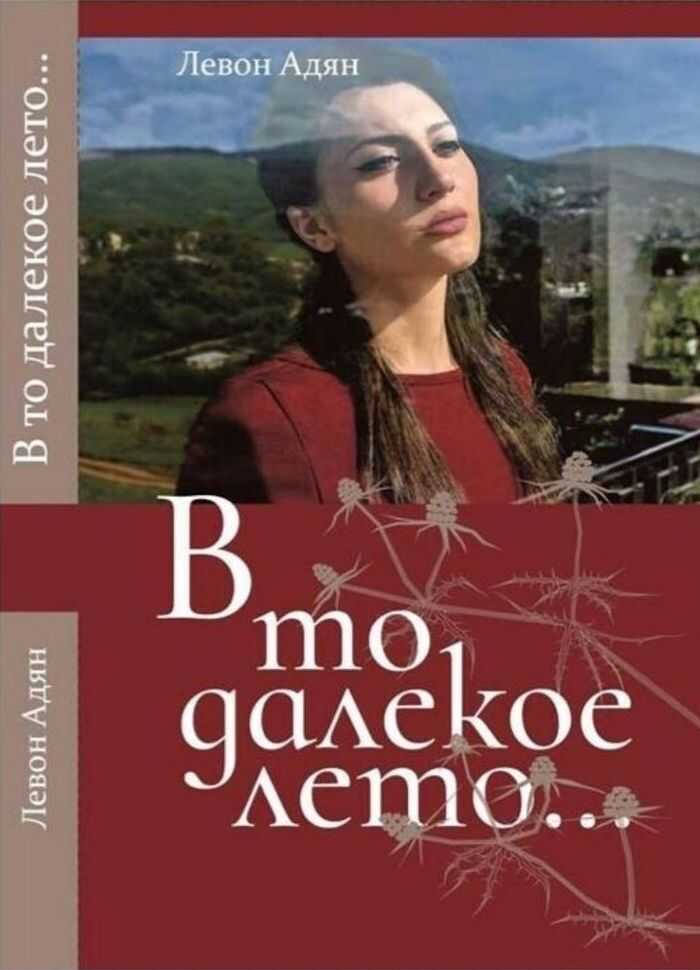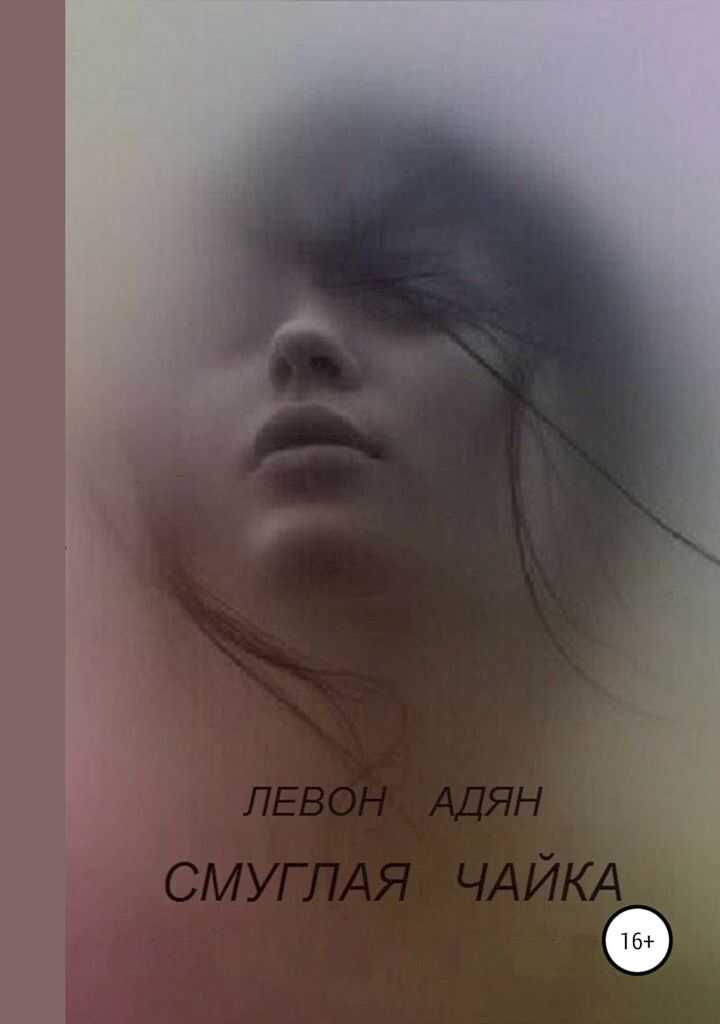Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Как в рассказах, так и в повестях, включенных в этот сборник Левона Адяна, с особым трепетом описаны судьбы героев маленького гордого края — Нагорного Карабаха, окруженного горами, сказочной природой с ее холодными родниками, бурными реками, густыми прохладными лесами, цветущими лугами… И на фоне такой красоты — непростые судьбы людей, и все это тонко и умело передано в образах героев, столкнувшихся не с одним испытанием, но не сломавшихся… Любовь, тепло и доброта, идущие от людей, украшают их нелегкий быт.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Левон Восканович Адян»: