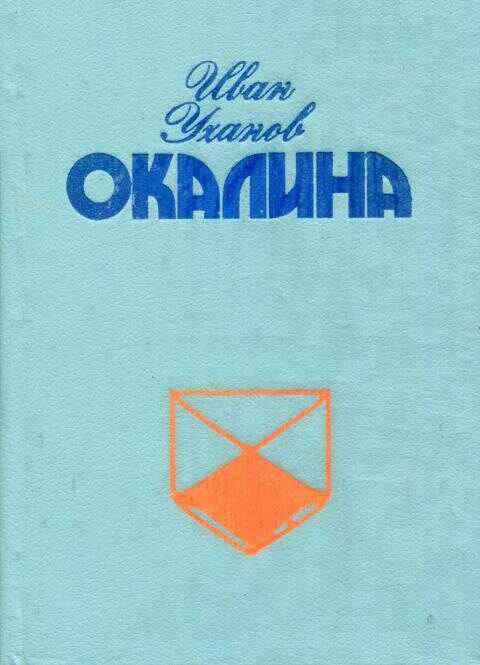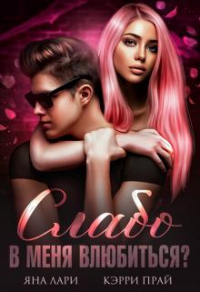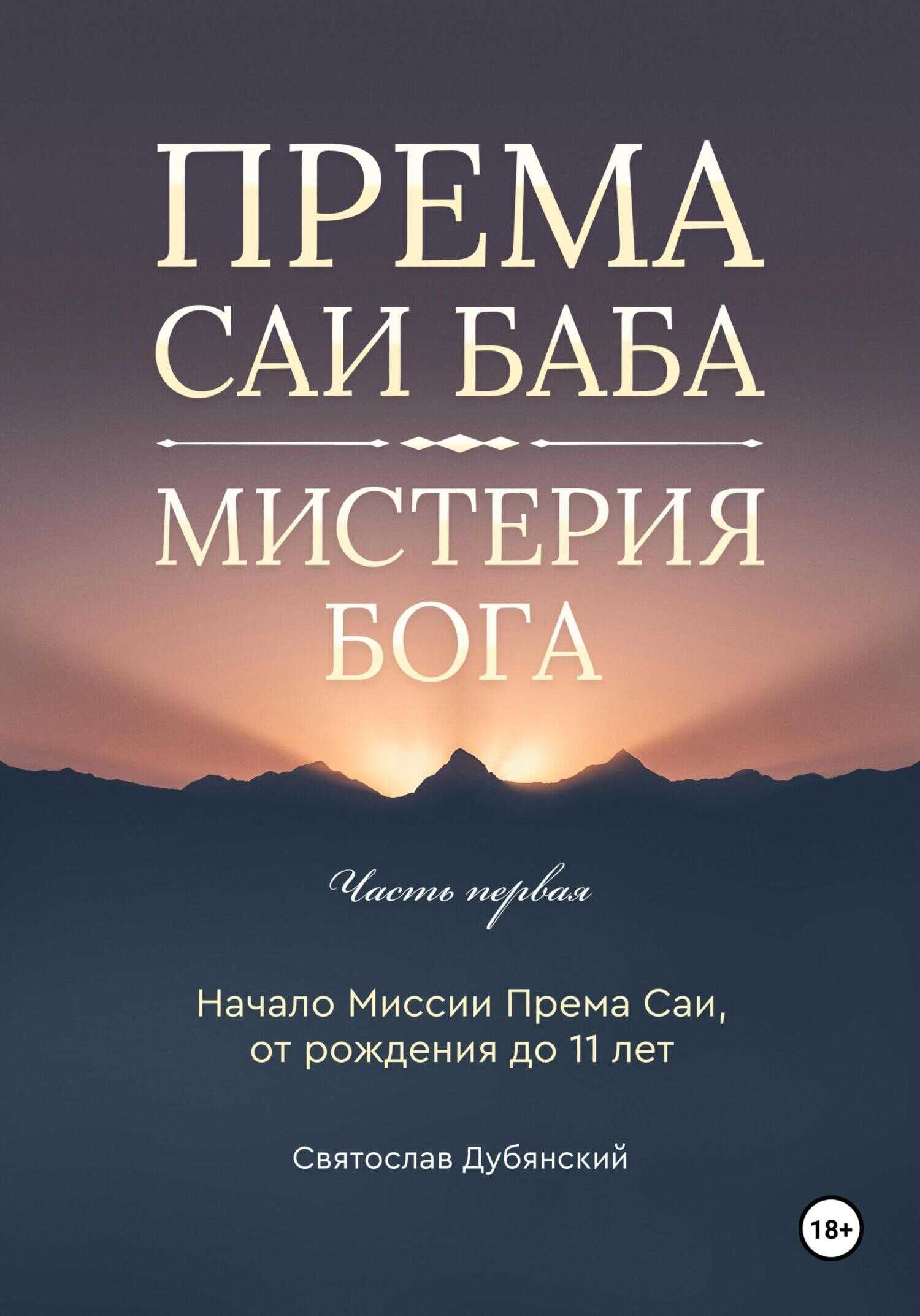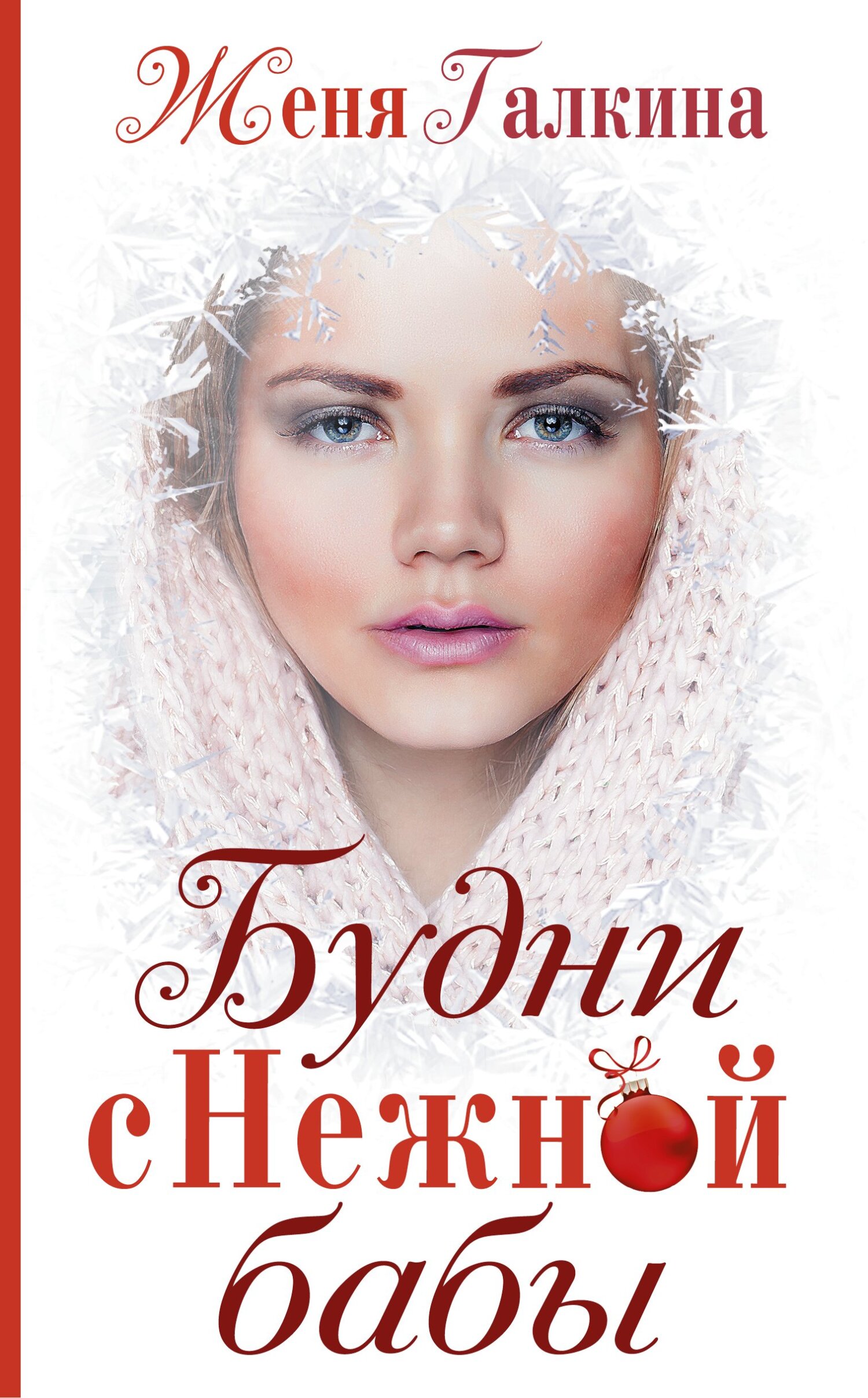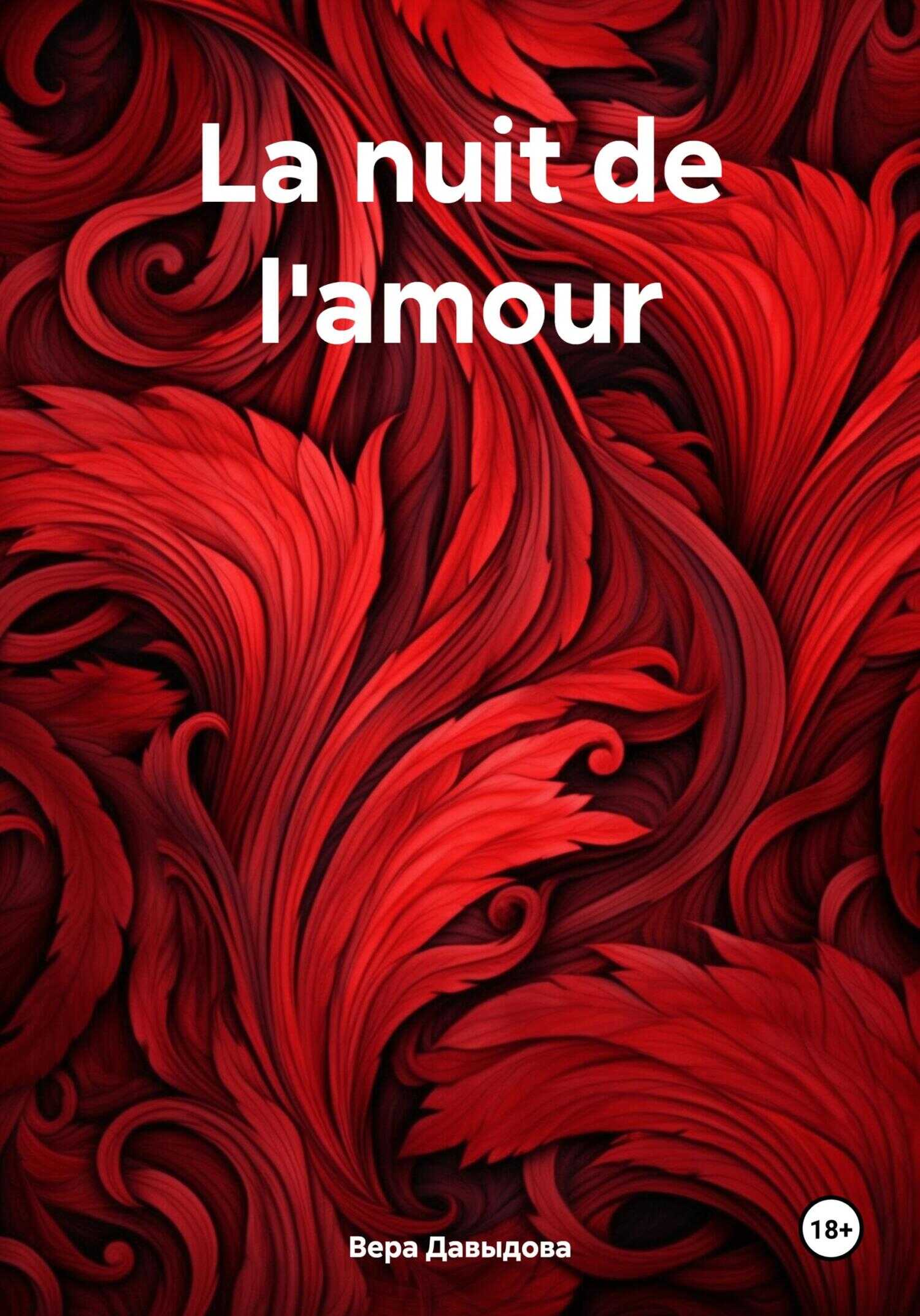Шрифт:
Закладка:
— У нас, Дедушевых, спокон века так. Все камушки нам на голову. Такая наша планида. Вот и сынок… Ушел здравым, а возвернулся безгласным. Рядышком сидим, да немая беседушка. И куды деться? Беда… И не по лесу она ходит, а по людям. У каждого она тут, на закорках, сидит…
Не слыша заунывной речи отца, Устин с энергичной улыбкой кивал ему, как бы поддакивал, и старик от этого пуще скорбел и горбился. С тихой досадой глядел из-под обвислых рыжеватых бровей на гомонящих в застолье баб, словно окоротить их хотел, урезонить. Бабы же громким, вперемешку со слезами, весельем утешали и словно бы негласно попрекали старика: «С жиру нахохлился, Данилыч. Тебе ли горевать? Вон сынок каким краснощеким с фронта явился! А ну-кось, пойди по дворам: кому еще так повезло?»
К старику подсела, обмахиваясь платком, молодая вдова Нюра Корюшина.
— Хватит рохлиться, Данилыч! Давай споем. За себя и за Устина. Ох, и любил он спевать.
— Не поется мне, чтой-то, Нюра, и не пьется, — отмахнулся старик.
— А я пою с чего? Да чтоб не плакать. А кончу петь, так и завою! — резко-весело выкрикнула Нюра и запела что-то без слов. И вправду, как завыла.
Попели, поплясали, поплакали и, притихшие, разошлись по домам.
Утром Устин проснулся, когда в избе уже никого на было: Фрося чуть свет ушла в коровник, детишки — в школу. Он накинул шинель, вышел на крыльцо, щурясь на солнце, и стал не спеша, узнавая и радуясь, разглядывать деревенскую улицу. Вдали возле колодца шумно переговаривались, судя по жестикуляции, две бабы. На плетень вскочил петух, хлопнул крыльями и закукарекал. Устин не услышал его и резко отвернулся, чтобы не видеть беззвучно поющего петуха… Тихая радость в сердце погасла. Вдруг испугался: выйдет сейчас из-за угла добрый человек, спросит его, безгласного, о чем-либо, и, объясняясь, отвечая, станет он таким же с виду смешным и жалким, как этот петух.
Устин попятился с крыльца, вышел в небольшой, огороженный плетнем дворик и с каким-то тоскливо-ищущим взглядом промерил его бесцельными шагами. Словно не доверяя глазам, стал неторопливо, изучающе ощупывать рукой то валявшуюся колоду, то старую пустую бочку, то висевший на стене сарая кое-какой плотницкий инструмент и огородный инвентарь…
Он узнавал всю эту давнюю, в большинстве сделанную им самим домашнюю утварь, но она зато словно бы не признавала его, не отзываясь на его прикосновения никаким звуком: щипцы привычно не лязгнули, сыромятные вожжи ременно не заскрипели в его руках… Устин подобрал в углу двора смятое по верхнему ободку ведро, взял со стеллажа молоток и на чурбаке стал выпрямлять жестяную посудину. Сначала ударял ровно, прицельно, потом вдруг завзмахивал зло и безрассудно — колотил, как бы желая вызволить все же, выколотить из железки положенный звук… Но звука не было. Побагровев и запыхавшись, Устин отбросил молоток и вконец погубленное ведерко и, сбычив голову, долго стоял посреди двора в оцепенелой задумчивости… Затем снова вышел на крыльцо и оглядел улицу. Она была немая, как и все кругом. Устину захотелось к людям, к Фросе… Спустился по ступенькам и зашагал по улице. На столбе, врытом напротив здания колхозного правления, угрюмо молчал черный раструб громкоговорителя. Его немоту подтверждал, как догадался Устин, беспечно-сонно сидевший на нем воробей.
Из проулка вырулила старенькая машинешка — полуторка и, скрипя рассохшимся кузовом, помчалась по улице, догоняя солдата. Непрерывно сигналя, она почти настигла его, чуть не сбила и, крича тормозами, вильнула в сторону, влетела в канаву. Устин запоздало шарахнулся на обочину, споткнулся и упал.
— Эй, ты что, чокнутый? Сигнала не слышишь?! — гневно закричал молодой крепкого сложения шофер. Устин сразу же признал Федора Бредихина.
— Глухой он, глухой. Контуженный! — закричали и замахали руками бабы у колодца.
Устин меж тем встал с обочины и, отряхивая шапку, с виноватым видом подошел к шоферу, на лице которого вместо гнева затеплилась растерянная улыбка.
— Устин?.. Здорово! — мужчины крепко пожали друг другу руки. — Фрицы не убили, зато я чуть не задавил. Топаешь, как глухой.
Бредихин смолк и каким-то новым уже неулыбчивым взглядом ощупал Устина. Потом оглянулся на тарахтящую на обочине машину и как бы не желая углубляться в человеческую беду, так внезапно встретившуюся ему, торопливо и неестественно-бодро забасил:
— А, пустяки… Главное — живой! У меня тоже вот погляди. — Бредихин показал изуродованную левую кисть. — Считай, одной рукой кручу баранку… Ей и баб обнимаю. А коли есть чем обнимать — значит у мужика все в порядке!
Бредихин громко захохотал и, блестя огнисто-черными глазами, побежал к машине.
2
Хотел Устин вернуться на прежнюю свою работу в ремонтные мастерские, но глухота не пустила. Все трактора и машины для него теперь стали неслышными, бегали, как в немом кино, беззвучно, и лишь по запахам и вздрагивающей под ногами земле Устин догадывался, судил о работе их моторов. Он не мог, как прежде, с завидной точностью по звукам определять болезни чугунных сердец машин. До войны же он слыл в Ключевке механиком-самоучкой, всегда умел подстегнуть работу простейших механизмов: то ременный привод к веялке от трактора подведет, то самодельный вентилятор к зерносушилке приладит… Теперь из всей движущейся техники в колхозе остались два трактора-колесника да полуторка, остальные машины еще в начале войны забрали для фронта. На исправных тракторах и комбайнах девчата и бабы работать могли, но, случись поломка, — слезы женские лились ручьями. И как сгодился бы теперь колхозу такой специалист по технике, как Устин Дедушев, воротись он с войны не инвалидом первой группы, а прежним — самим собой. А теперь как ему ладить с моторами? Да и для людей тяжел в общении: кричи ему, хоть раскричись на ухо, а он знай себе поглядывает да улыбается, будто завсегда приятное и ласковое ему говорят. Конюх, тракторист, бригадир, сторож… Васенин перебрал все посты, где сподручнее служилось бы глухонемому Устину, но для исполнения всякого дела человеку полагалось иметь если не голос, то хотя бы слух. Вот разве что почтальоном? Татьяна Васенина, дочка, хоть и аккуратно возит почту, но в последнее время стала побаиваться. Кабы одни письма возила, а то и посылки, и деньги. А дорога через Кульганский лес лежит, всякое может случиться: война — задичал лес-то. К тому же донельзя сердобольная, чувствительная. Когда привозит похоронную, то страдает, убивается наравне с каждой новой вдовой, и от этого