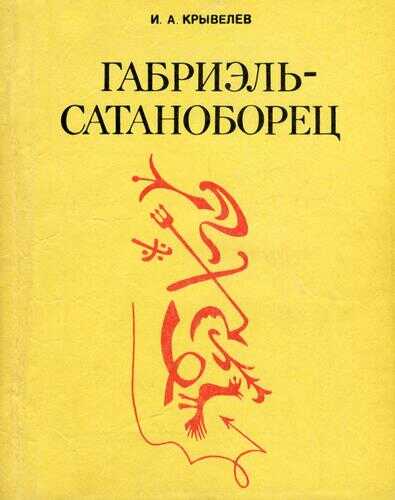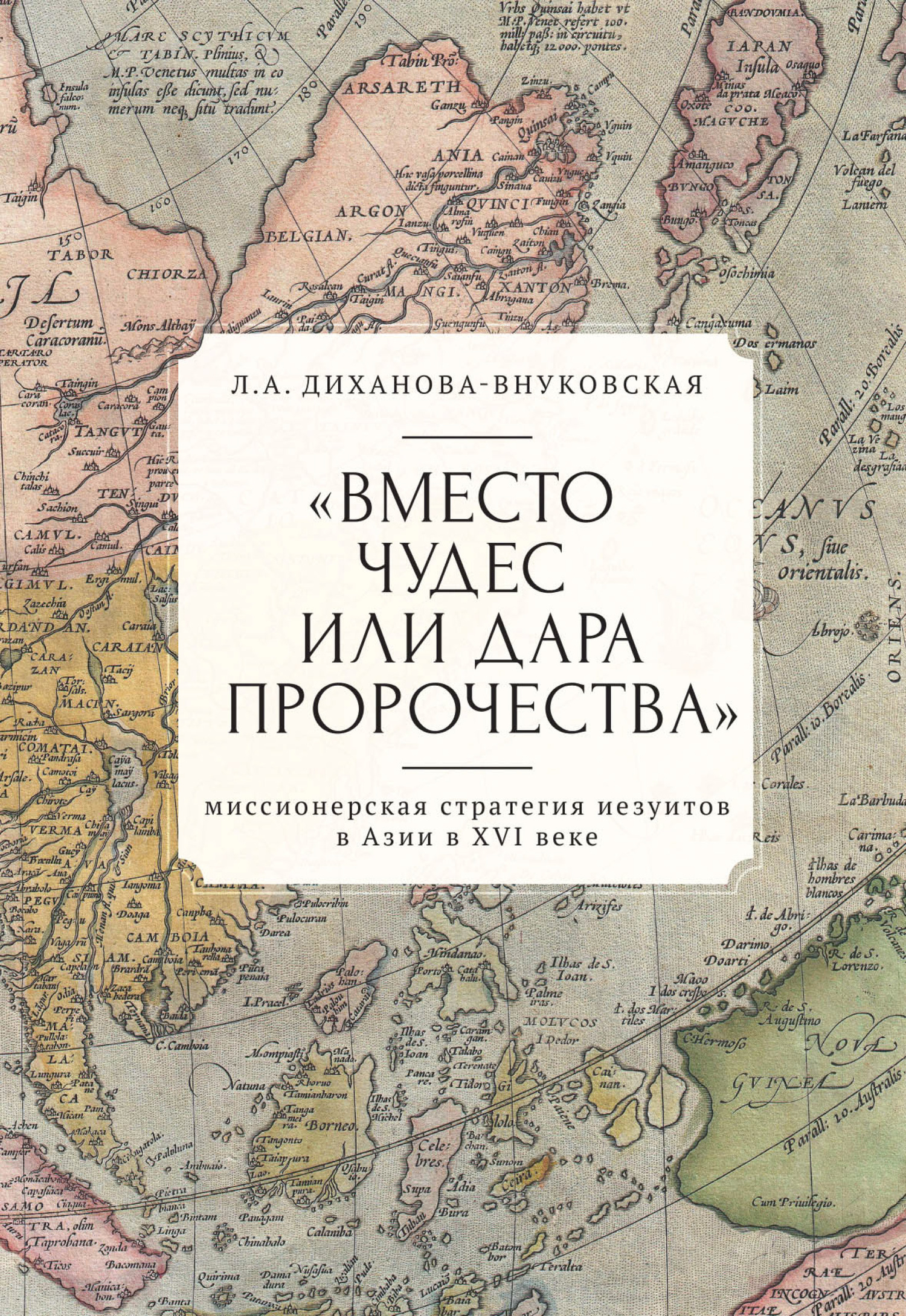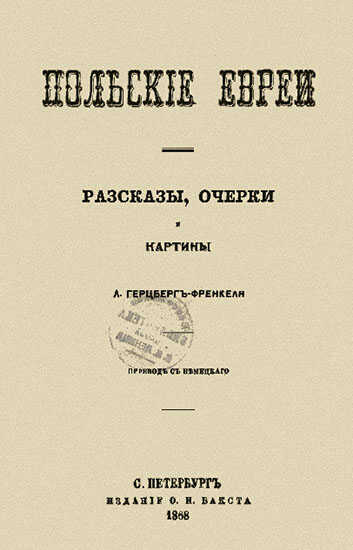Шрифт:
Закладка:
В книге в беллетристической форме излагается история того, как талантливый французский антиклерикальный писатель и публицист Габриэль Пажес, взявший себе имя Лео Таксиль, в течение двенадцати лет мистифицировал католическую церковь, которая поверила его заведомо нелепым измышлениям относительно масонов. В 1897 году Лео Таксиль на многолюдном собрании в Париже раскрыл механику этой фальсификации, выставив церковь и папу Льва XIII на посмешище всего мира. Наглядно и убедительно была разоблачена «непогрешимость» римских пап, и в наше время претендующих на «духовное руководство» человечеством. Работа основана на исследовании исторических документов, книг Таксиля и его соратников Карла Хакса и Доменико Марджиотты, а также на материалах периодической печати того периода.