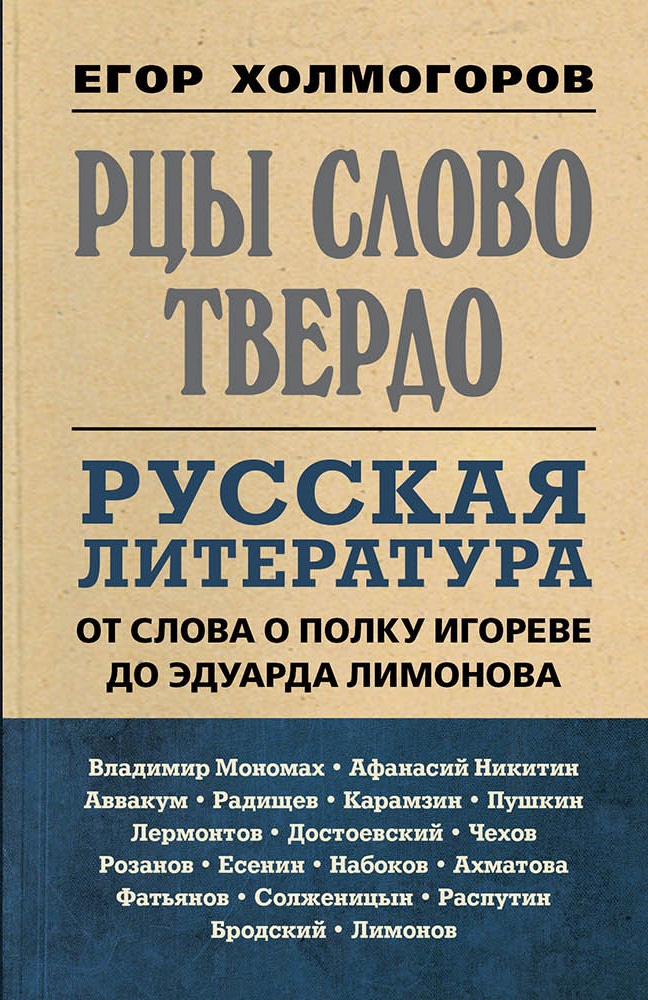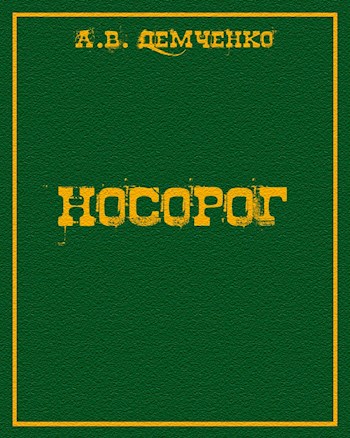Шрифт:
Закладка:
– Оно как кому повезет, однако… Мы вот с Митькой – сын это мой – четыреста шешнадцать ден воюем, и ни царапины. А другой, гляди, только придёт в роту и пульнуть-то по фрицам не успел – уж готов. Вот оно как… А ты кто же будешь-то? Партейный инструктор? – неожиданно спросил он у Шолохова.
– Да, что-то вроде этого, – сказал Михаил Александрович…
Солдат, пошарив по карману, спросил у Шолохова:
– Газетки на пару закруток не найдётся?
Газеты у Михаила Александровича не было. Солдат досадливо поморщился, но Митька в это время шагнул к отцу, подал ему небольшую книжонку.
– Возьмите, батя. Бумага тут, как газетная. Хороша.
Солдат взял книжонку, сердито бросил сыну:
– Ошалел ты, что ль? Такую книжку – на закурки. Соображать надо, однако.
– Прочитали ведь, – виновато заметил парень. – Два раза…
– Два ра-аза! – солдат разгладил книжку, протянул, не выпуская из рук, Шолохову. – Читал? “Наука ненависти! “Это, милый, такая наука, что без неё нашему брату никак нельзя. Ну никак, понимаешь? И писал эту книжку не простой человек… всё знает, однако. Душа у него солдатская, понимаешь? Он вот по окопам, как ты, запросто. Приходит, садится, говорит: “Покурим, братцы? У кого покрепче?” Звание у него, слышь, полковник, а он… Эх, тебе, милый, не понять. Большой он человек, потому и простой… Кто с ним один раз потолкует, век помнить будет. Душа-а… Это я тебе точно говорю…
Шолохов, взглянув на меня, по-доброму усмехнулся одними глазами. Как бы между прочим спросил у солдата:
– Сам-то не толковал с ним?
– С ним? – солдат бросил короткий взгляд на сына и ближе придвинулся к Михаилу Александровичу. – Вот так сидели – рядом. Спроси кого хошь. Говорю ему: приезжай, слышь, в Сибирь. Напиши, говорю, про наш Енисей, про тайгу нашу матушку. Роман получится – ахнут люди. “Приеду, – говорит. – Вот войну – побоку, и сразу – в Сибирь. Напишу, говорит, роман”…»
В тот заезд, во время перестрелки, возле Шолохова был смертельно ранен молодой боец. Он умер, в буквальном смысле, у него на руках.
…Из Сталинграда он заехал в Камышин – и пережил там несколько бомбардировок: немцы нещадно крушили город. Оттуда по вызову Ортенберга отправился в Москву.
* * *
Шолохов перепроверил, расспросив у собратьев-писателей, действительно ли есть такие слухи, что привёз Виделин.
Товарищи признали: есть.
Но мало того что есть – они до Сталина дошли.
Ещё уточнили: за слухами стоит не только корреспондент Донского фронта Первомайский, но и вообще круг Эренбурга. И он сам тоже.
Шолохов и Эренбург никогда близки не были и пересекались по большей части случайно – в 1934-м на Первом съезде писателей, в 1935-м на литературном вечере в Доме архитектора. Тому были объективные причины – до 1940-го Эренбург жил за границей и в СССР бывал наездами. Он дважды очень желал видеть Шолохова на довоенных международных конгрессах, за организацию которых отвечал, но тот оба раза выехать не смог.
Дважды осенью 1941-го Эренбург писал секретарю ЦК по идеологии Щербакову, что необходимо использовать авторитет Шолохова для антифашистской пропаганды. Прозу Шолохова он, хоть и с оговорками, ценил, но ещё лучше понимал степень его известности в мире. Несколько раз в те месяцы они более-менее всерьёз встречались – в Москве и в Куйбышеве. Близости не возникло, но и отторжения не было.
На очередной встрече с американской делегацией, состоявшей, так совпало, в основном из евреев, Шолохов, слушая речь одного из гостей, настаивавших на том, что роль еврейского народа в этой войне – особая, исключительная, поднялся и поправил: на советских фронтах гибнут в подавляющем большинстве русские люди, поэтому не заговаривайте очевидного.
Кажется, Эренбург был лично оскорблён поправкой Шолохова. Других причин для того, чтоб иметь к нему хоть какие-то претензии, у Эренбурга вроде бы не было. Двадцать лет спустя, в нашумевшей мемуарной книге «Люди. Годы. Жизнь» Эренбург напишет о настроениях Шолохова в начале войны, какими он хотел бы их представить: «Он был тогда не с нами, потому что казаки не с нами. А для него это связь – кровная».
В словах Эренбурга будто бы слышна имеющая явственный этнический привкус недоверчивость к казачеству. Возможно, на него повлияли тогда очередные известия о наличии казачьих частей в фашистской армии, хотя, памятуя о яростно сражавшихся на фронте дивизиях советских казаков, он мог бы шире взглянуть на проблему. В любом случае, приведённая цитата даже не косвенно, а прямо подтверждала, что Эренбург и двадцать лет спустя зачем-то продолжал отстаивать свою правоту в каком-то давнем, застарелом конфликте, где сам же и был виноват.
Едва ли нужно доказывать, что сказанное Эренбургом – и огульно, и безосновательно. Что значит «он был тогда не с нами»? А с кем? С «ними»?
Да, Шолохов мог самым жёстким образом оценивать происходящее, – это вообще было в его характере в любые времена, когда большинство собратьев по ремеслу и рта не раскрывали. В разговоре с тем же Первомайским в Каменске-Шахтинском он мог обматерить управленческое головотяпство. Но в пересказе Первомайского Эренбургу шолоховские слова прозвучали совсем по-другому. А дальше – пуще: подробности лепились и нарастали. В сухом остатке от всех этих слухов осталось одно: Шолохов и вся его семья не уезжают из Вёшенской и заодно с остальными донскими казаками ждут немцев, которые никак их станицу не захватят, а им уж и стол наверняка накрыли. (В доме, от которого остались одни руины.)
Заметим, что к чести жителей Верхнего Дона, никаких массовых переходов на сторону противника там не наблюдалось. Отдельные перебежчики были, – один, вспоминают старожилы, бригадир и орденоносец едва ли не первым махнул за Дон и поспешил сдаться, – но где ж такого не случалось?
Шолохов, не успев постираться, в сталинградской окопной грязи и камышинской чёрной пыли от бомбёжек, прибыл по месту вызова – и сразу же угодил на очередное заседание – то ли ВОКСа,