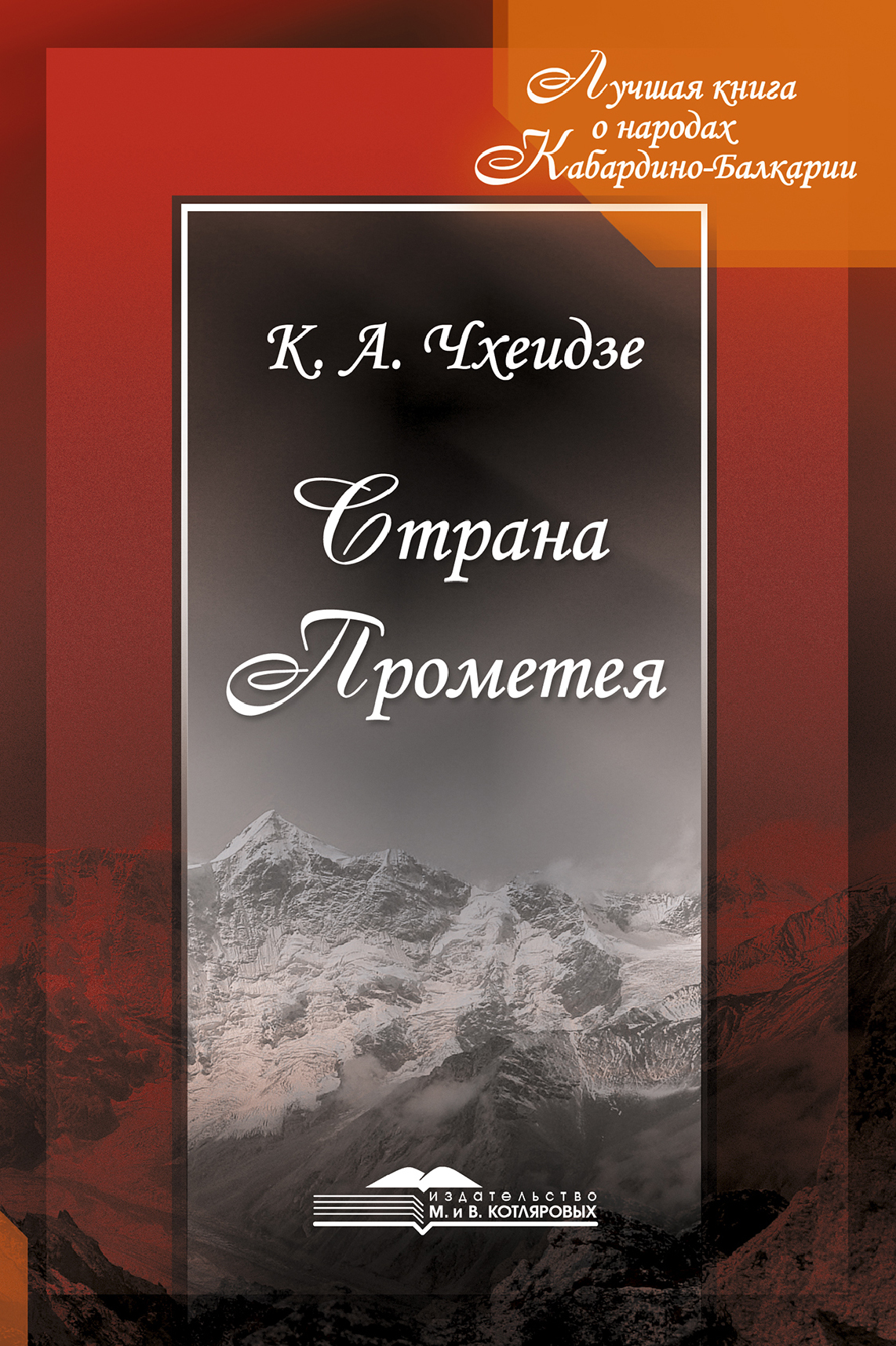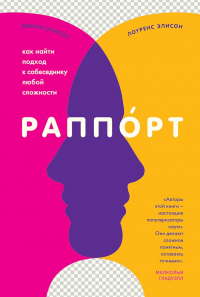Шрифт:
Закладка:
…Перед нами книга, которую в Кабардино-Балкарии прочитали два-три человека, но слышали о ней многие, – «Страна Прометея», написанная белоэмигрантом Константином Чхеидзе, вышла более 70 лет назад в далеком Шанхае и в настоящее время ни в одной из библиотек России да и Европы ее не имеется.Перед нами – светлое и пронзительное повествование о людях Кабарды и Балкарии, их менталитете, образе жизни и духовных ценностях; взволнованный рассказ о природе, достопримечательностях горного края. Это своего рода гимн дореволюционному воздуху Кабарды и Балкарии, горцам, имеющим уникальное понятие «напэ», о котором автор тоскует в 1930 году, дописывая странички о братоубийственной войне на Кавказе, той войне, где он был адъютантом З. Даутокова-Серебрякова.К. Чхеидзе пытается быть объективным – друг с другом бьются насмерть не какие-то абстрактные люди, а те, которых он знает, этикет которых чтит, с которыми ел хлеб-соль. Сквозь все слова, описания и рассуждения сквозит боль князя Константина Александровича Чхеидзе о разрушении личности, об убивании в человеке войны человечности, рождающейся из общности страдания. Автор, наделенный незаурядным литературным слогом и большой любовью к нашей общей родине, из боли своего сердца «слепил» «Страну Прометея», которая заставит вздрогнуть не одно читательское сердце.Герои этой удивительной повести – реальные люди, узнаваемые, с конкретными судьбами, чьи имена мы попытались раскрыть, проследив их судьбы по документам, что придает книге особый колорит. Как и рассказ о судьбе ее автора – выдающегося деятеля русского зарубежья, большого писателя, глубокого философа, одного из зачинателей евразийства.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.