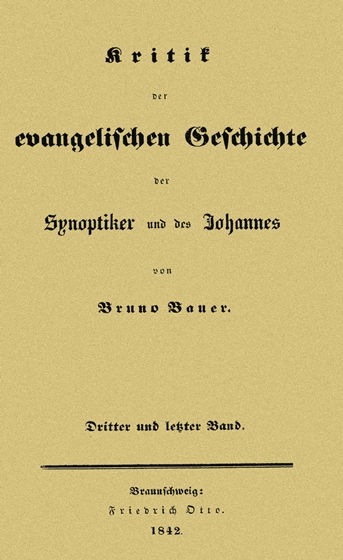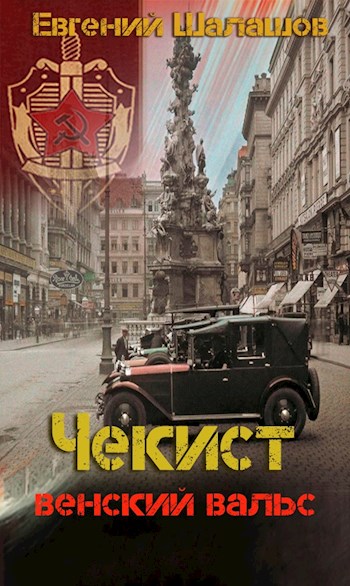Шрифт:
Закладка:
«Видимый человек» (1924) венгерского литератора и поэта Белы Балажа (1884–1949) – одна из первых книг по кинотеории. Полагая, что «кинематограф делает видимым человека и его мир», Балаж – под влиянием идей Анри Бергсона, Георга Зиммеля и Вильгельма Дильтея, у которых он учился в Париже и Берлине, – обращается к физиогномии и мимике, становясь первопроходцем в исследовании лица и крупного плана. Он вступает в полемику с Кулешовым и Эйзенштейном, чтобы выявить эстетические закономерности киноискусства, описывает и анализирует его формы выразительности, выявляет принципы, сделавшие кинематограф таким популярным. Балаж рассматривает разные типы фильмов, раскрывает секреты оптических трюков, оценивает новое направление – цветное кино, – выявляет значение звука и музыки для фильмов, иронизирует над «хэппи-эндом». Идеи Балажа не принадлежит исключительно прошлому, к ним постоянно обращаются ученые, историки и семиотики кино. Влияние «Видимого человека» на теоретическую мысль простирается от понятия «ауры» Вальтера Беньямина до киносемиотики Кристиана Метца и феминистских теорий взгляда.