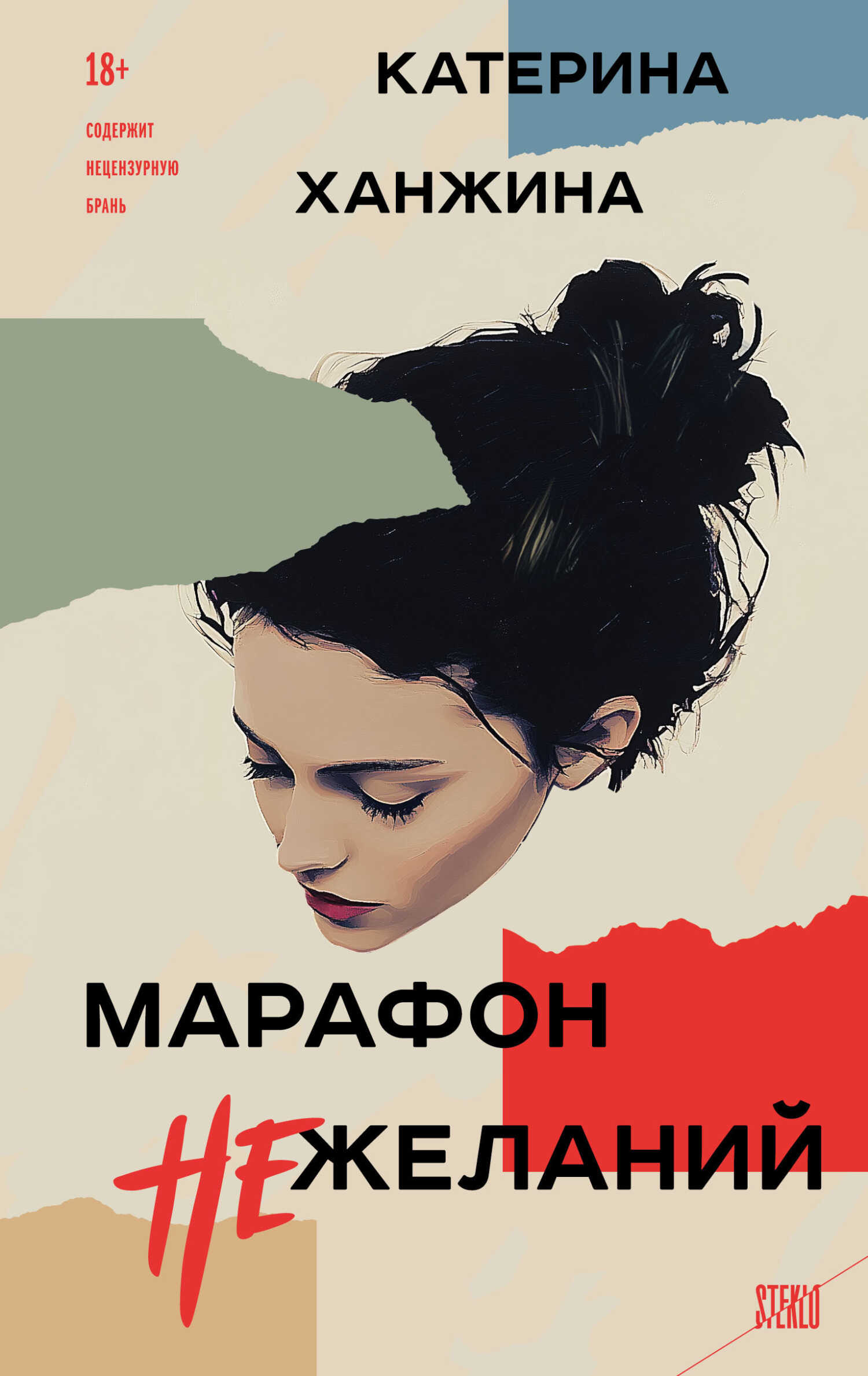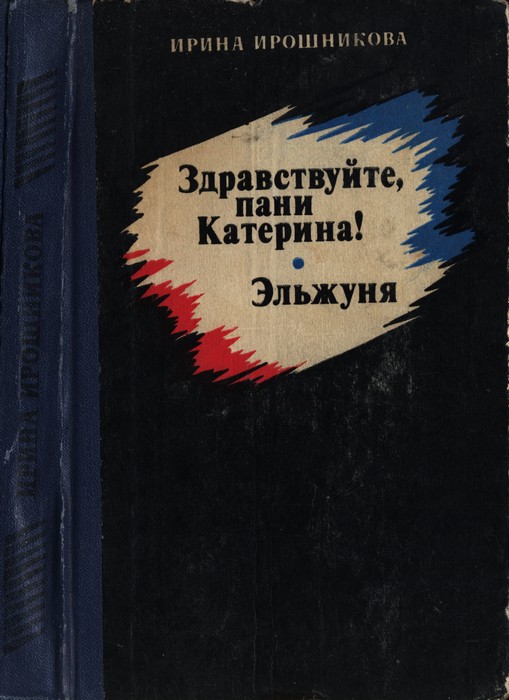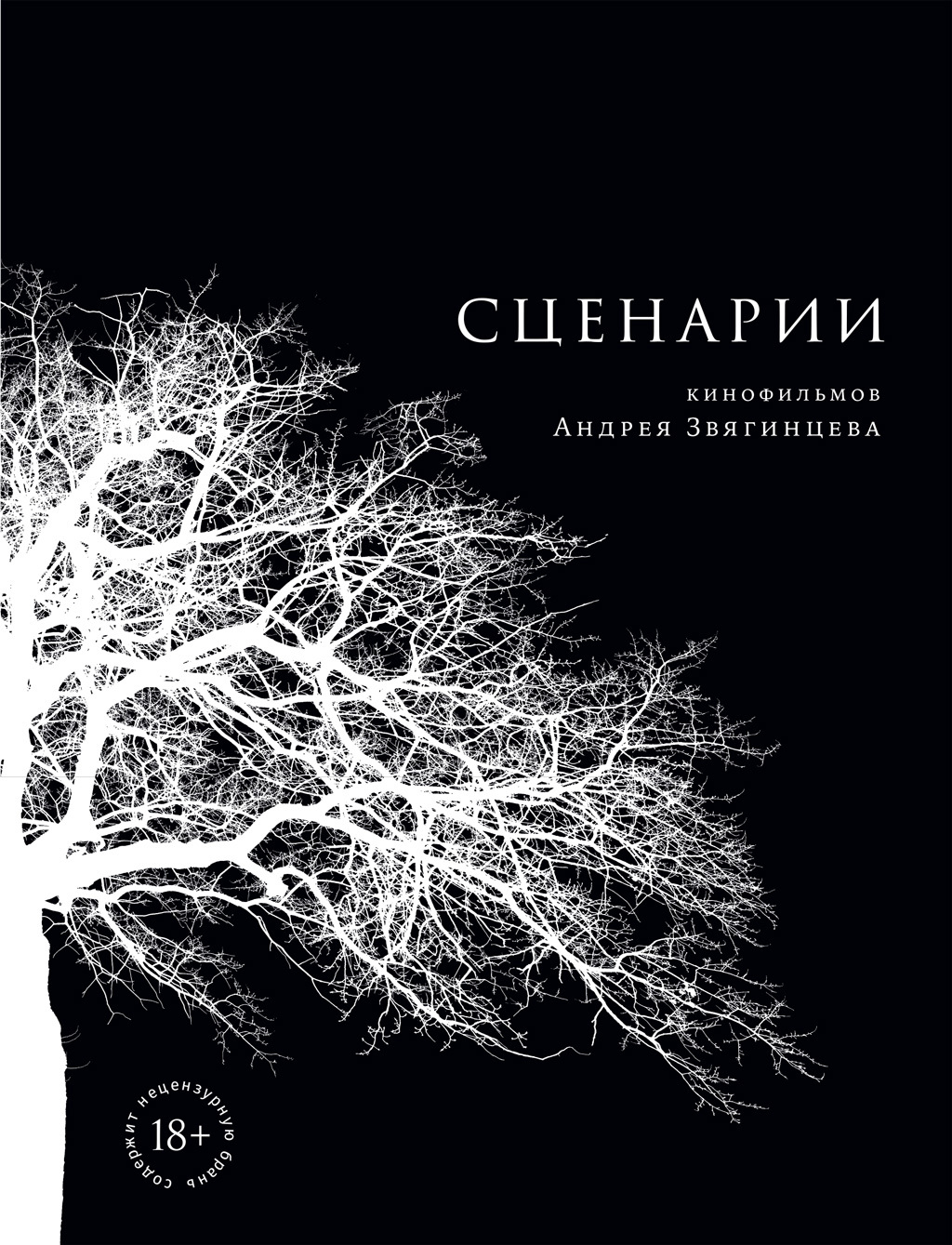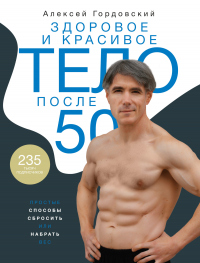Шрифт:
Закладка:
На вопросы он отвечал усмешкой и хмыканьем, красноречиво говорящим: ничего вы не понимаете, детки.
Около десяти утра Тимур сказал:
– Запомните – ни один праведник, ни один счастливый человек не создал в искусстве чего-то стоящего. Мне больше нечего добавить. Подумайте о том, какой след могли бы оставить вы.
Мы, конечно же, пошли на пляж – ведь думать о своих проектах приятнее, лежа под обжигающим солнцем и слушая шелестящее пение моря.
И тут я подумала: «Как же быстро мы стали “мы”».
Со вчерашнего дня я не думала, что «я и они идем на посвящение». Как только мы очутились на острове, стало «мы идем туда-то». И хотя я никого не знала и по вредной привычке заранее дала всем оценку, я чувствовала, что все мы влюблены в мир искусства, начиная от классического кино и заканчивая современными перформансами. Все мы боимся и страстно желаем открыться миру через наше творчество.
На левой оконечности пляжа, у камней, лежала группа ребят, которых нам так и не представили. Утром Миша упомянул, что это те, кто остался после предыдущих арт-терапий, и им вредно общаться с новенькими – может вернуться былая неуверенность или из желания помочь они могут рассказать нам, что нас ожидает, а это испортит весь эффект. Поэтому мы легли на правой стороне, у подножия террасы с нашими домиками.
Я думала о своем проекте. Изначально я хотела продолжить свой сборник рассказов, так как у меня было еще несколько десятков файлов с набросками цветочных историй. Но сейчас мне казалось, что я должна создать что-то новое. Создать из того, что я узнаю и увижу здесь.
Мысленно я написала название: «Дневник боли и свободы». И уже хотела бежать в комнату, чтобы начать писать, как ко мне обратилась девушка в купальнике с высокой талией, какие носили в середине двадцатого века. С формами пин-ап модели и белоснежной шапкой волос а-ля Мэрилин Монро, она как будто бы сошла с открытки 50-х годов.
– Если жить в Париже, то ты бы предпочла как в «Молода и прекрасна» или как в «Мечтателях»?
– Как в «Мечтателях», конечно!
– До приезда сюда вся моя жизнь была похожа на «Молода и прекрасна», не буду подробно объяснять, ладно? А сейчас я как будто очутилась в «Мечтателях», где меня окружают понимающие интеллектуалы.
Меня немного смутила ее откровенность. Но потом я подумала, что в этом есть какое-то очарование. Ведь мы не знаем друг друга и можем представляться с той стороны, с которой захотим. Можно заново выстроить свой образ, не стесняясь приправлять его горькими или обжигающими специями – чем грязнее и фриковатее получится, тем лучше.
– Понимаю.
Лера слепяще улыбнулась, кокетливо поведя бледным плечиком в веснушках, и обратилась ко Льву с просьбой намазать спину солнцезащитным кремом.
«Молода и прекрасна»…
Я стала размышлять, как можно использовать мою зависимость от широкой груди надежных мужчин, находящихся в кризисе среднего возраста. Не надо быть Фрейдом, чтобы понять, что это от отсутствия отца, но…
Я не знала его совсем. Я не понимала, чего лишилась в детстве, тем более что большинство моих знакомых девочек также воспитывались только мамами. Я не знала, как это иметь папу, а поэтому и не могла написать о том, чего у меня не было. Именно у меня, а не у абстрактной девушки, лишенной отцовской заботы. По чему я должна тосковать? От чего у меня щемит в груди, когда я вижу любящих отцов с их сиропно-сахарными дочурками? Ведь я не знаю, как они живут в быту, как отец принимает участие в жизни дочки. Я чувствовала, что глубоко в себе я знаю ответы на все вопросы, но вытаскивать их будет так больно и уже бесполезно. Если я просто отпущу это, то не смогу оправдывать все, что происходит в моей личной жизни. Не смогу винить в этом Его. А мне нужна эта заноза, чтобы творить.
Я всегда любила рефлексировать. Отлично понимала причины своего поведения, отношения к жизни и другим людям, но не хотела ничего менять. Докапываясь до самой сердцевины боли, болезненно кайфовала от мысли, что из этого выйдет красивая трагедия.
В подростковом возрасте я радовала психолога (это был бесплатный психолог из маминого интерната, к которой она меня водила, потому что «она у меня какая-то не такая; боюсь, наркоманкой станет») своей рассудительностью и логичностью.
После сеанса она говорила:
– Видишь, ты все понимаешь. Осталось самое простое – отпустить и жить дальше.
Я делала вид, что всех прощаю, и отца, и маму, чтобы перестать ходить к этой рыхлой даме с руками, похожими на зефир, и запахом сладкой жвачки. Но ночами я выжимала из больных фраз, услышанных за всю жизнь, как можно больше слез. С такой силой вдавливала их в себя, что они становились как запавшие кнопки любимых телеканалов на пульте. Так, что сегодня показывают?
«А дочка-то у тебя шлюховатая», – сказала мамина подруга, когда мне было тринадцать.
Мама взяла меня с собой на шашлыки к реке. Ее подруги быстро одурели от свежего воздуха и дешевого коньяка. Я предпочитала лежать на берегу, подальше от них, и читать книжку. Дул сильный ветер, от которого задирался подол моего платья. Я не спешила его поправлять. Мне казалось, что так я выгляжу небрежно-романтичной. И я знала, что соседняя компания парней лет под двадцать периодически посматривает на меня. Сначала они думали, что я одна. Но мама, как только они подошли познакомиться, сразу же крикнула с поляны: «Роза, что им от тебя надо?» Поэтому мне оставалось только лежать, рассеянно покачивая ножками в воздухе, и делать вид, что меня ничуть не смущает, что подол платья чуть прикрывает ягодицы. Это заметила мамина подруга и громко сказала ту фразу, когда я вернулась с книгой к ним на поляну. Мама даже не одернула нетрезвую Галину Павловну, лишь строго напомнила мне, что разговаривать с незнакомыми мужчинами нельзя.
Или: «Девка-то твоя – яд. Хуже отца будет». Это сказала наша соседка, с которой мама иногда оставляла меня. Это было еще до школы, но мне шестилетней так запомнились те слова. Я не была очаровательно непоседливой, не проказничала и даже ела все, что готовила та скупая бабка (обычно это были каши на воде, без соли и масла). Но, по ее мнению, лучше бы я была хулиганкой («такую хоть отлупить можно пару раз, и она все поймет»), чем «такой язвой». Ненавидела