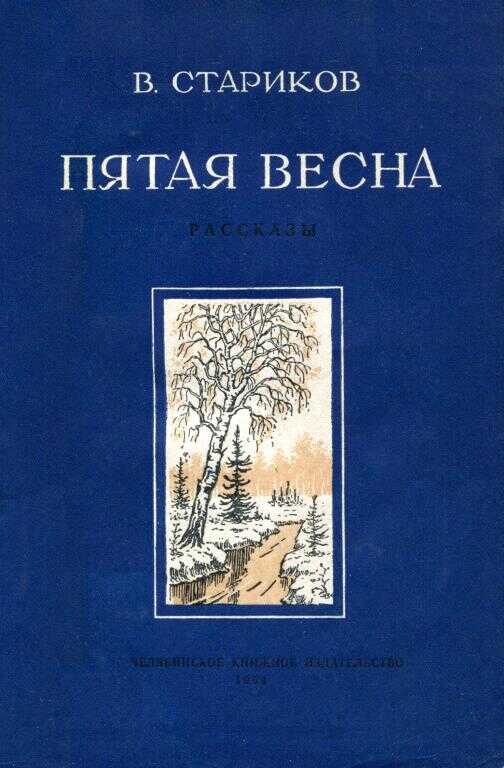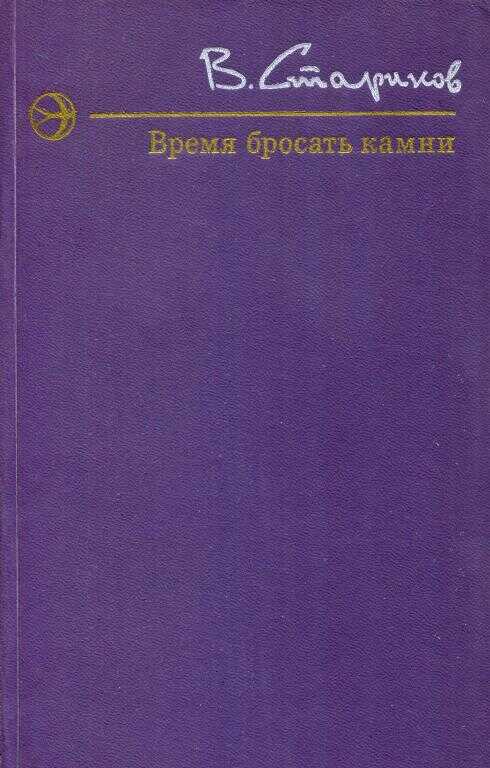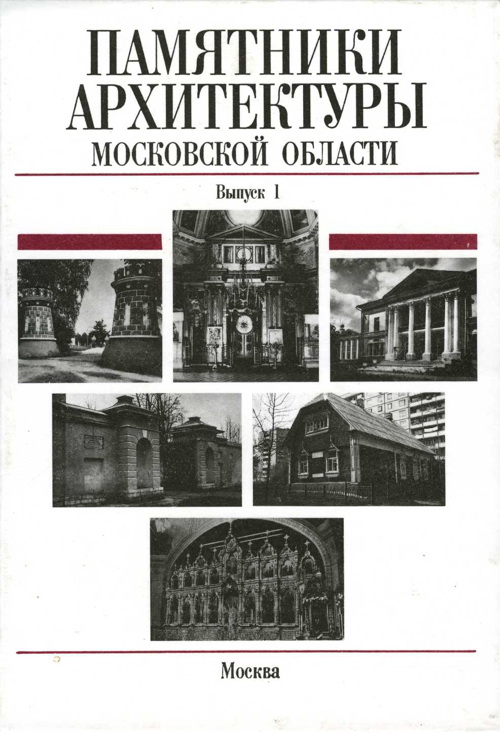Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Повесть «Время бросать камни» — о крупнейшем русском писателе XIX века Д. Н. Мамине-Сибиряке. В ней Виктор Стариков художественно убедительно рисует, как формировалась эта крупная личность, как будущий писатель утверждал свои демократические позиции в литературе. Книга охватывает тридцатилетний период жизни Д. Мамина-Сибиряка — с рождения писателя по 1884 год.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Виктор Александрович Стариков»: