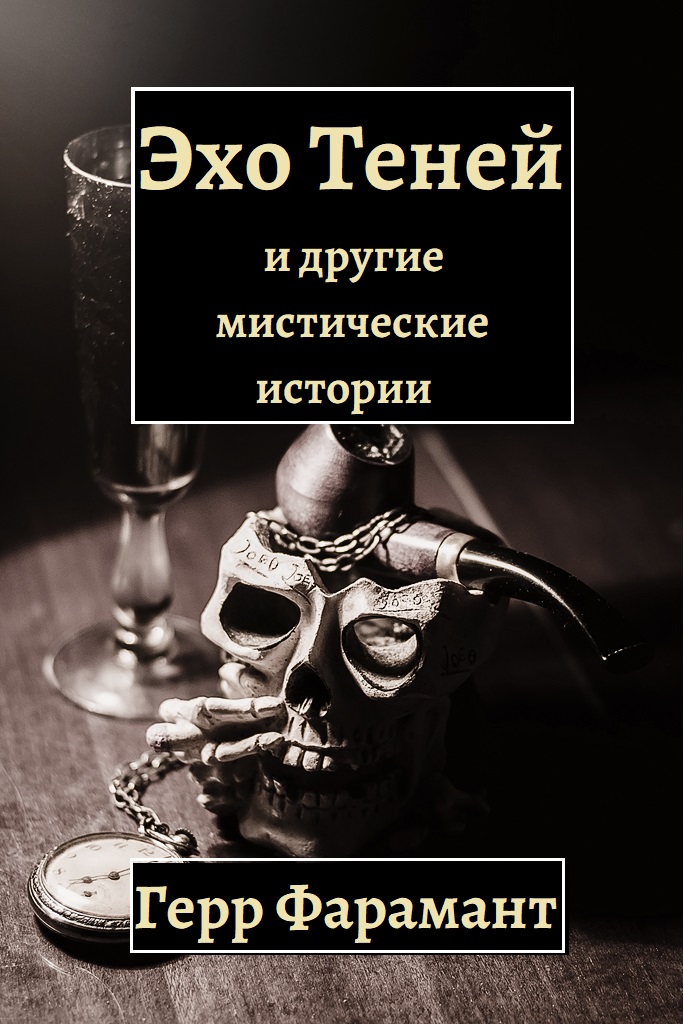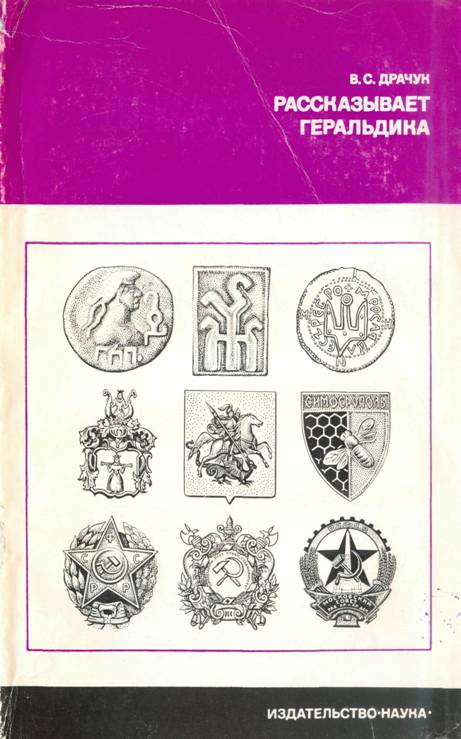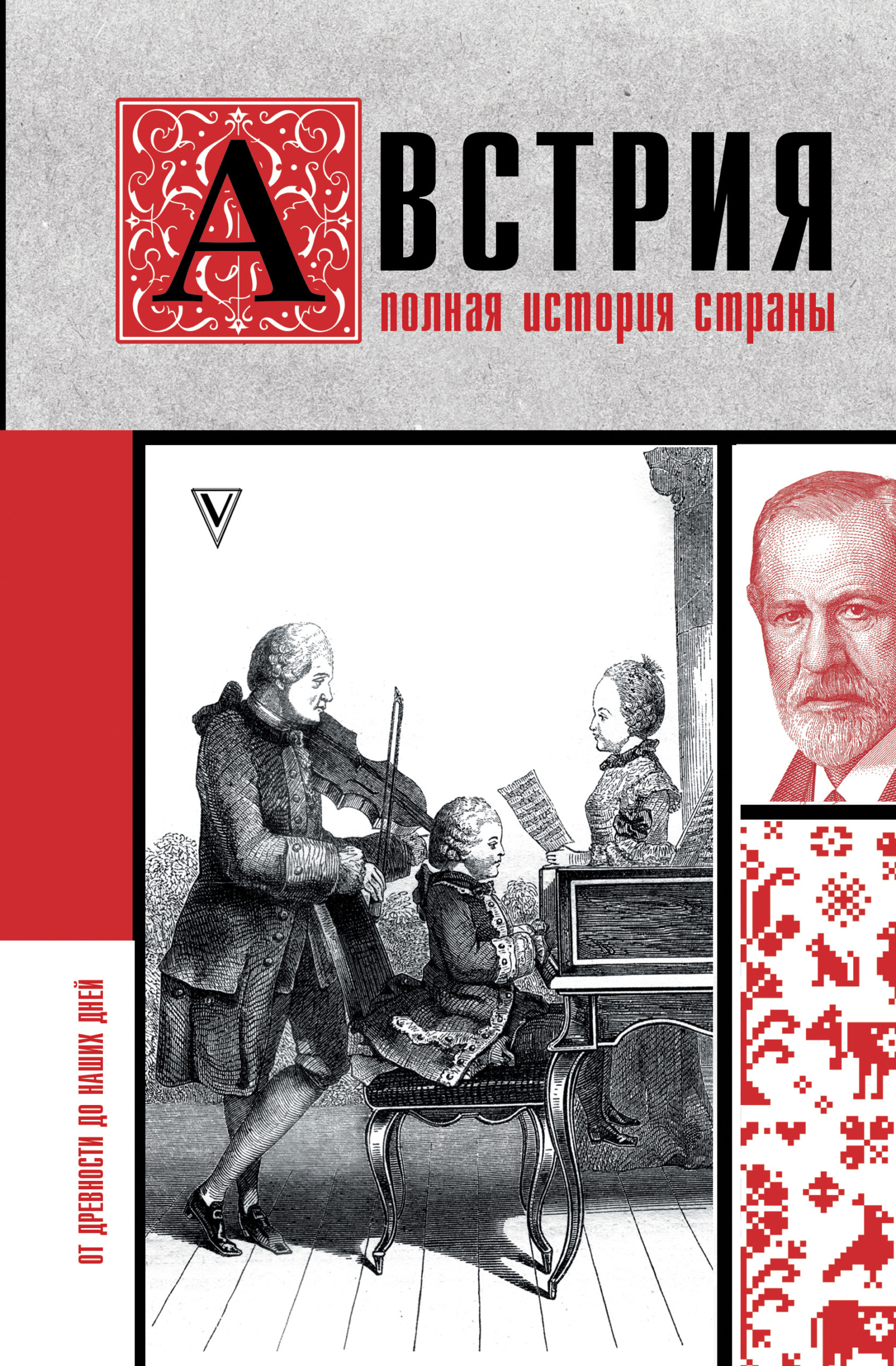Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Данный сборник включает в себя избранные мистические повести, посвящённые Харькову и другим (не всегда существующим) городам Украины. Случайно-найденный текстовый файл с логами бесед харьковской студентки и её (не совсем) живой подруги, милейший курортный городок под Одессой, то ли сны, то ли сказки о девочке в лесу фей — и история Инквизитора, смотрящего над искажённым городом. Тени на стенах, прах и забвение, нигредо и декаданс, где тени на стенах воплощаются в голоса. Услышьте их, распознайте. Занимайте места. Поднимается занавес, и мы начинаем спектакль.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Герр Фарамант»: