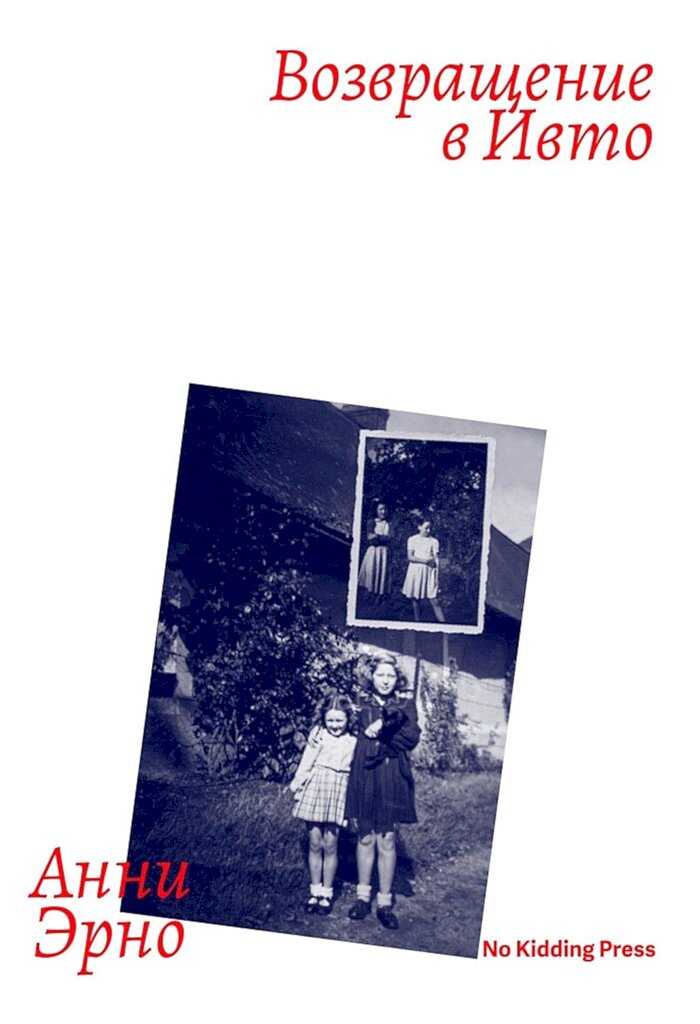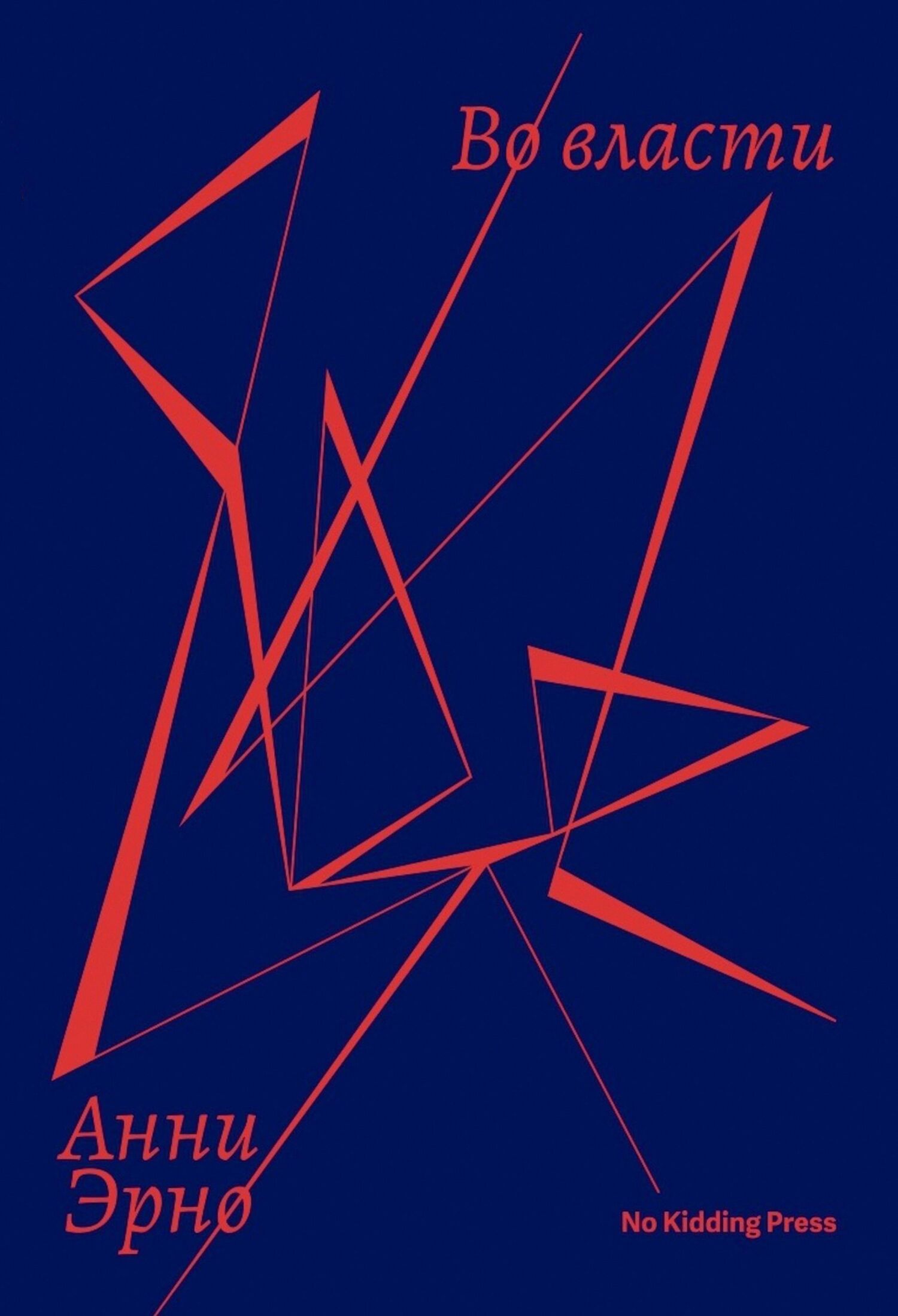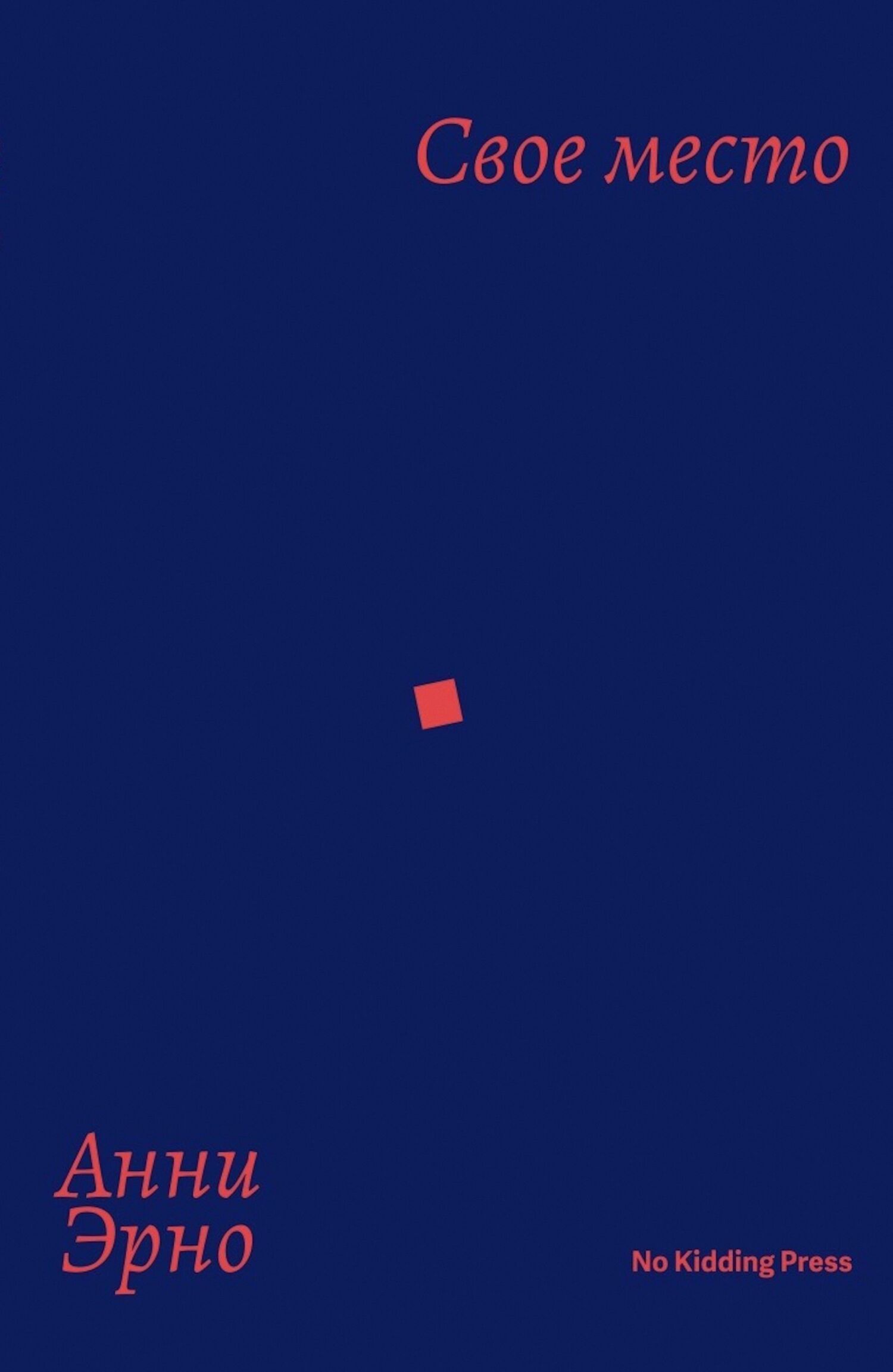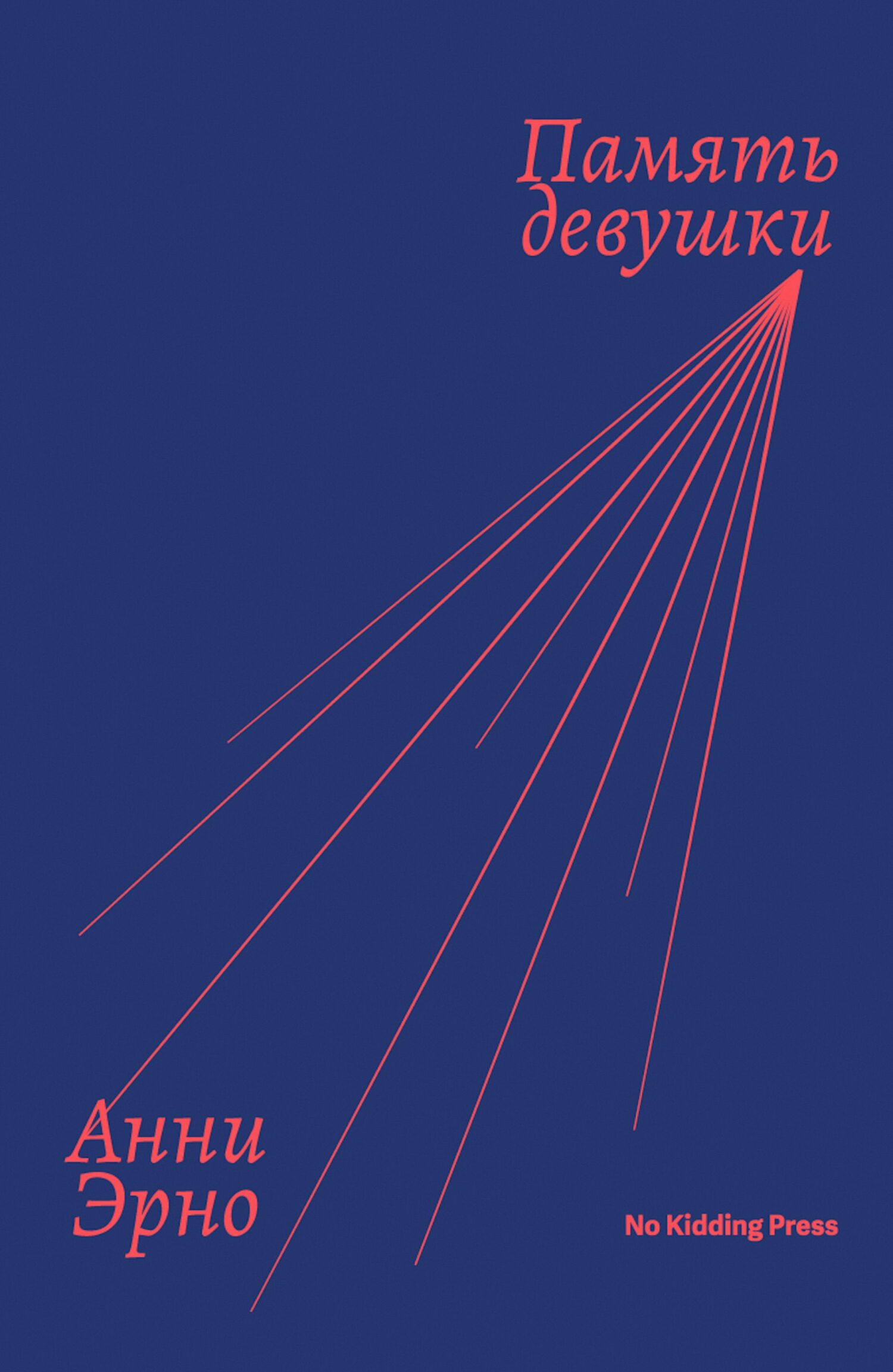Шрифт:
Закладка:
Книга “Память девушки” Анни Эрно - это захватывающий и мистический роман, который рассказывает о жизни молодой женщины, которая страдает от амнезии. Главная героиня, Элеонора, - это успешная и красивая фотографка, которая работает в модном журнале. Она не помнит ничего о своем прошлом, кроме того, что она была найдена на улице в возрасте шести лет. Она пытается восстановить свою память с помощью гипноза, но вместо этого она начинает видеть странные сны и видения, которые связаны с древним культом и жертвоприношениями. Она понимает, что она не просто потеряла свою память, но и связана с тайной, которая может угрожать ее жизни.
Книга “Память девушки” - это книга для тех, кто любит удивительные и напряженные истории, написанные в жанре психологического триллера. Автор создает интригующую и запутанную сюжетную линию, которая не дает читателю предугадать развитие событий. Книга написана ясным и выразительным языком, который не дает читателю скучать ни на минуту. Книга “Память девушки” - это книга, которая учит ценить свою личность, свою память и свою судьбу. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com