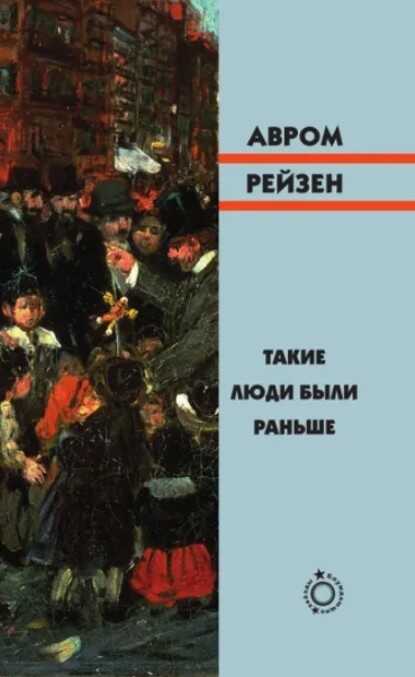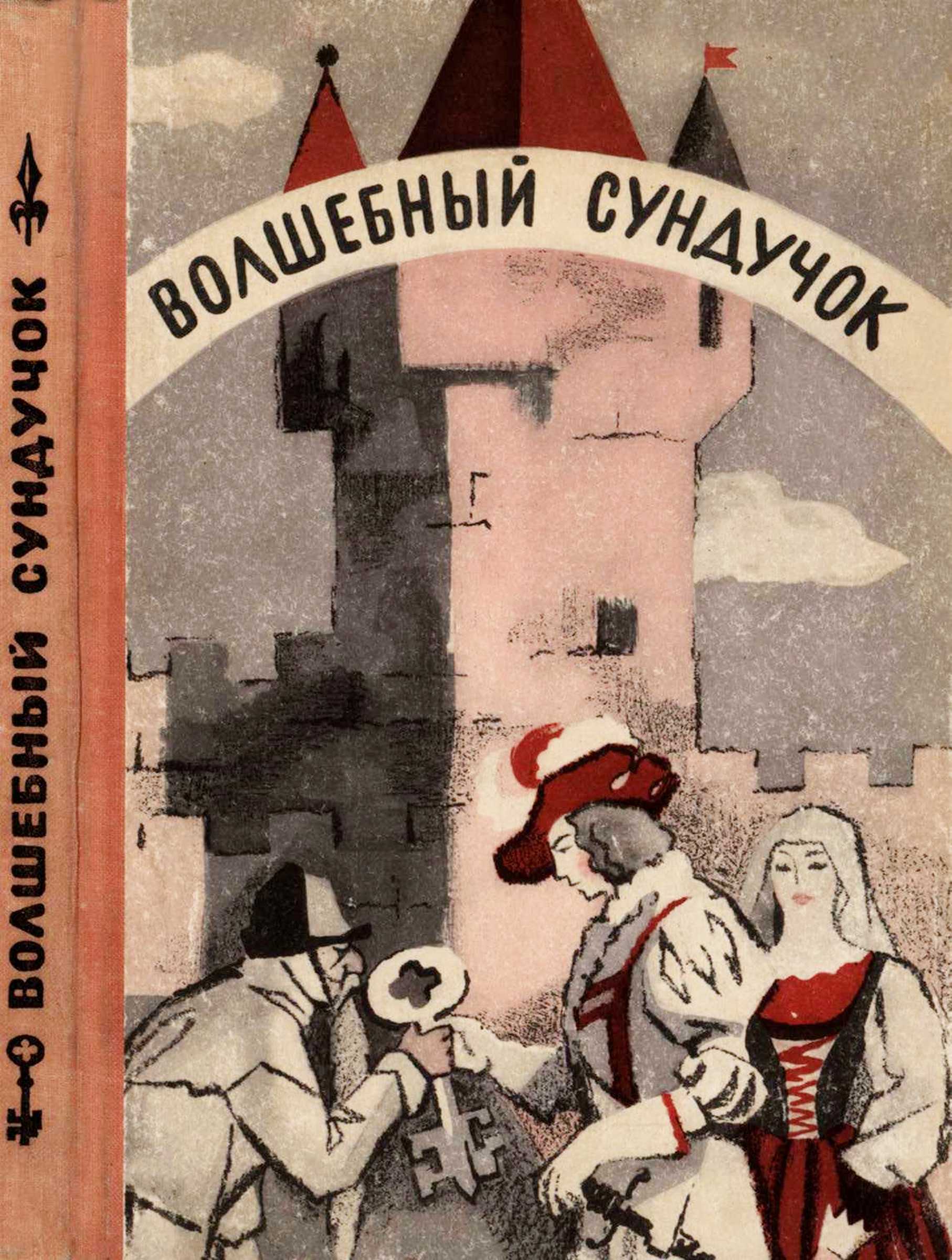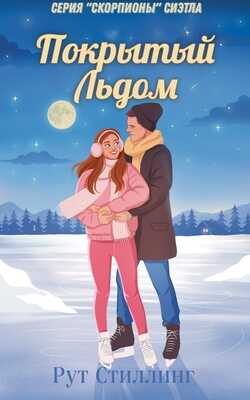Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В сборник рассказов новеллиста, поэта, журналиста Аврома Рейзена (1876–1953) вошли его произведения, написанные на идише в начале двадцатого века. Эти новеллы-миниатюры, рассказывающие о простых людях — ремесленниках, мелких торговцах, рабочих, учащихся ешив, служащих, — отличает психологизм, точность деталей и внимательный взгляд писателя.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Авром Рейзен»: