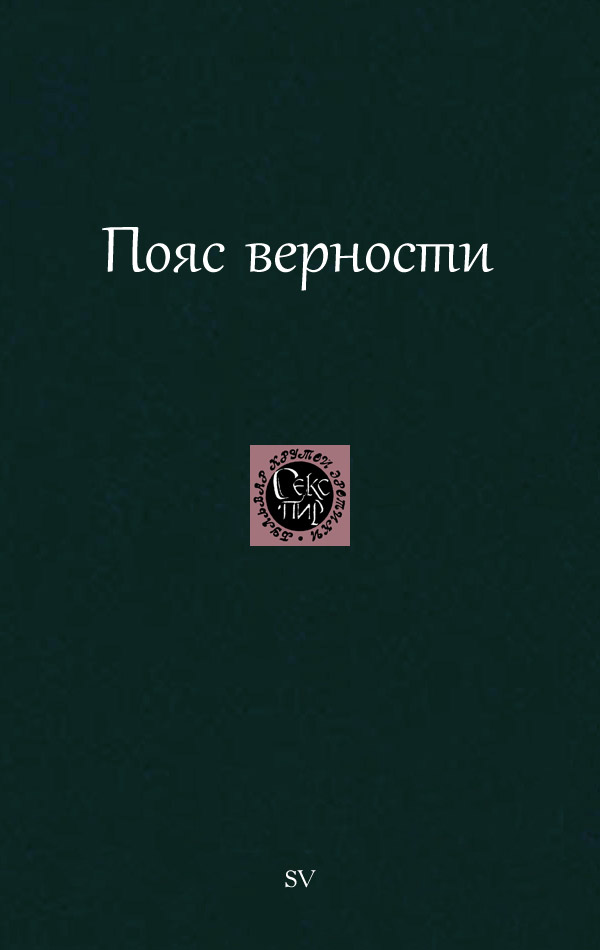Шрифт:
Закладка:
Хамдам Закиров (р. 1966) детство и юность провел в Фергане. Учился в Высшем военно-морском инженерном училище им. Ф. Дзержинского в Ленинграде, в Ташкентском и Ферганском университетах. Работал корреспондентом и редактором газет, завлитом театра, сотрудником музея, владельцем букинистического лотка на рынке. С 1994-го по 2001 год жил в Москве, затем в Финляндии. В 1996 году в библиотеке «Митиного журнала» вышла книга стихов «Фергана». Публикации в российских и зарубежных русскоязычных изданиях. Переводы на английский, венгерский, испанский, итальянский, латышский, немецкий, финский, французский, эстонский. Изданы книги стихов в переводах на эстонский (2015) и финский (2016). Куратор интернет-проектов «Библиотека Ферганы» и «Русская Кавафиана». Живет в Хельсинки.