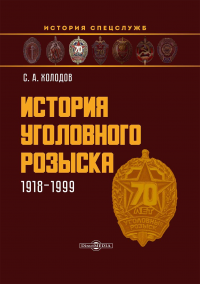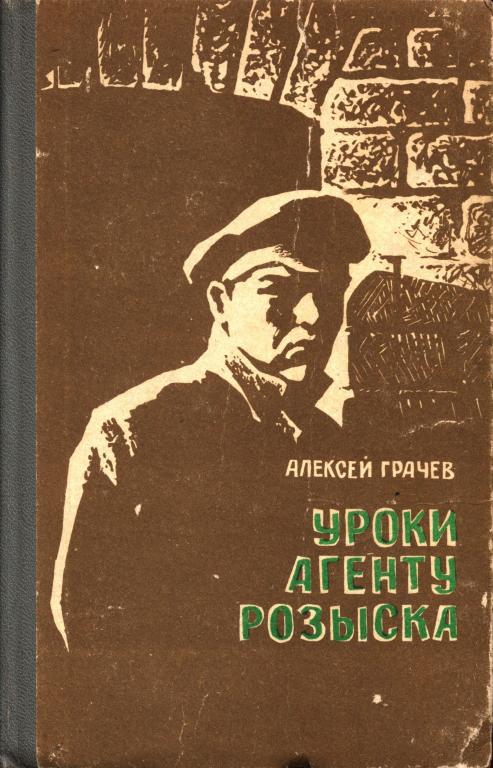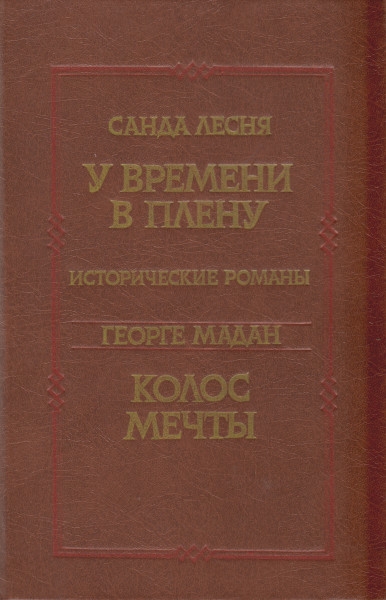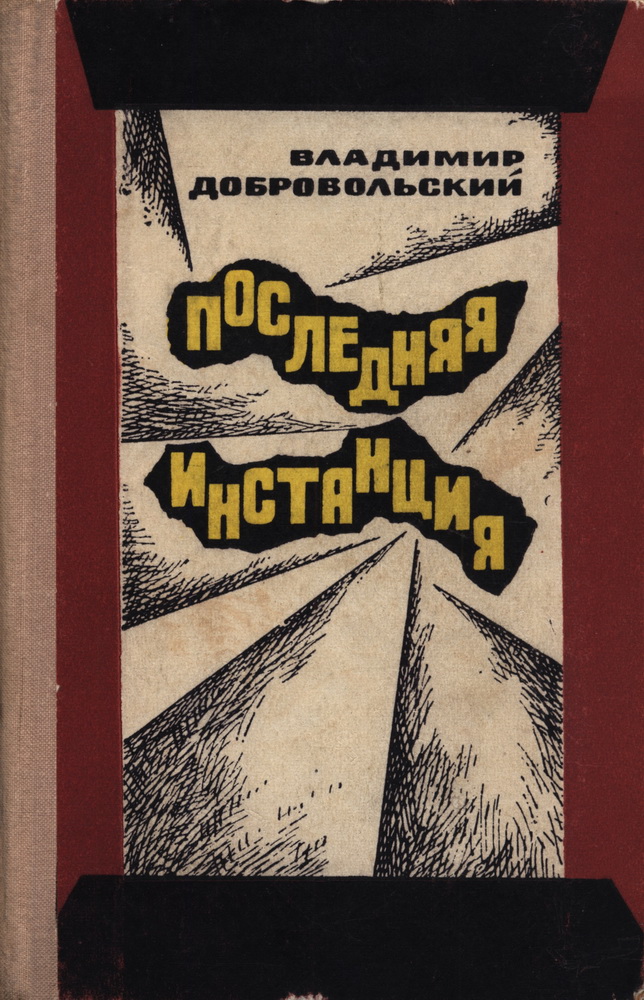Шрифт:
Закладка:
Эта книга - реальная история одного из самых известных и загадочных преступлений в советской истории - убийства певицы Лидии Руслановой, известной под прозвищем “Соловей”. Автор книги - бывший инспектор МВД, который лично расследовал это дело и раскрыл его обстоятельства. Он рассказывает о том, как он нашел улики, опросил свидетелей и подозреваемых, а также как он столкнулся с сопротивлением и давлением со стороны высших чинов, которые хотели замять скандальное дело. Он также дает свой взгляд на личность и судьбу Лидии Руслановой, ее талант и характер, ее любовь и ненависть, ее друзей и врагов. Он показывает, как жила и работала знаменитая певица, какие тайны и загадки скрывала ее жизнь, и как она попала в ловушку своего убийцы.
Если вы любите детективы и документалистику, то эта книга для вас. Вы узнаете правду о том, что произошло с “Соловьем” в ту страшную ночь 21 октября 1973 года. Вы окунетесь в атмосферу того времени, когда в Москве царили страх и подозрительность, а за каждым углом могла поджидать смерть. Вы почувствуете все переживания инспектора, который рисковал своей карьерой и жизнью ради того, чтобы найти убийцу и сделать ему справедливость.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Не пропустите уникальную возможность познакомиться с реальной историей “Инспектора и «Соловья»”!