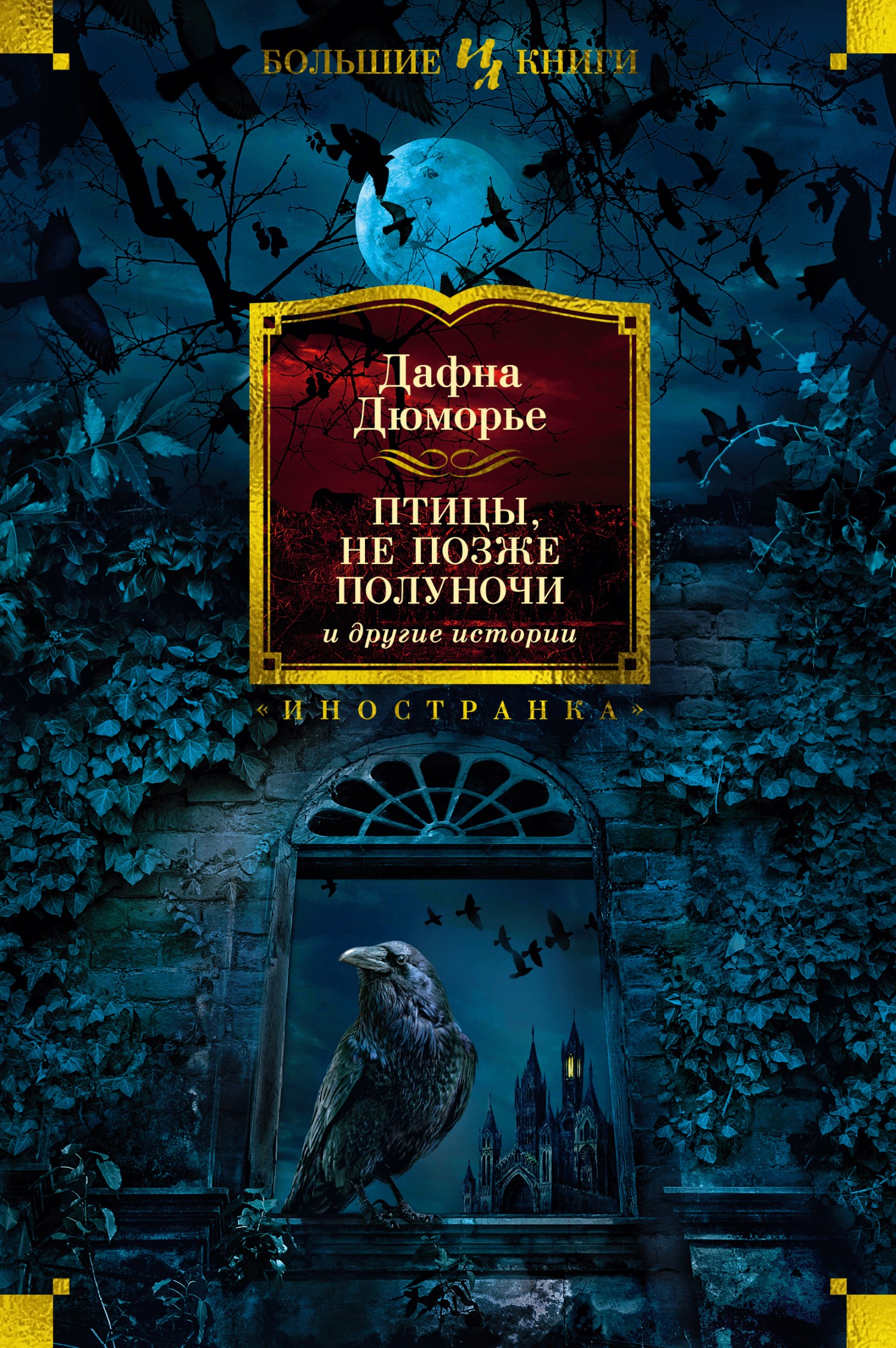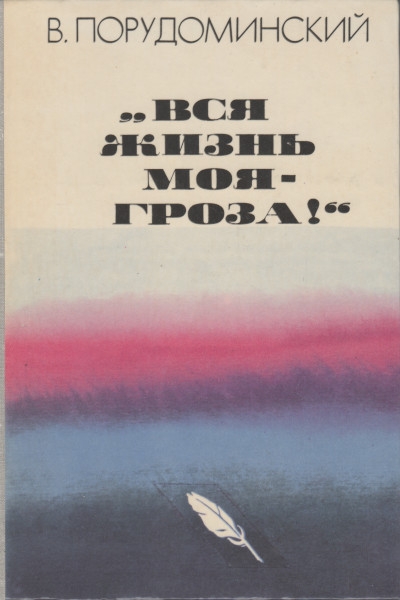Шрифт:
Закладка:
Вы хотите узнать о жизни и творчестве одного из самых известных и уважаемых писателей современности? Вы хотите услышать его мнение о разных аспектах истории, культуры, религии и литературы? Вы хотите почувствовать, как он переживает свой Исход – выход из России в Израиль?
Если да, то эта книга для вас. Она написана Евсеем Львовичем Цейтлиным – писателем, поэтом, эссеистом, переводчиком и лауреатом многих литературных премий. Он родился в 1936 году в Москве в еврейской семье и с детства проявлял интерес к литературе. Он окончил филологический факультет МГУ и работал в разных изданиях. Он писал стихи, прозу, эссе, критику и переводы с английского, немецкого, французского и иврита. Он был одним из основателей журнала «Синтаксис» и участником диссидентского движения. В 1979 году он эмигрировал в Израиль, где продолжил свою литературную деятельность.
В книге «Писатель на дорогах Исхода. Откуда и куда? Беседы в пути» вы найдете подборку интервью, бесед и выступлений Евсея Цейтлина, которые он давал в разное время и в разных странах. Вы узнаете о его биографии, его взглядах на советскую и постсоветскую Россию, на еврейскую и мировую культуру, на роль писателя в обществе. Вы увидите, как он относится к своим произведениям и к произведениям других авторов. Вы почувствуете его любовь к слову, к человеку, к Богу.
«Писатель на дорогах Исхода. Откуда и куда? Беседы в пути» – это книга для тех, кто хочет познакомиться с уникальной личностью и талантом Евсея Цейтлина. Это книга для тех, кто хочет узнать больше о русской и еврейской литературе и культуре. Это книга для тех, кто хочет слышать голос писателя на дорогах Исхода.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Не упустите шанс познакомиться с Евсеем Цейтлиным и его беседами в пути!