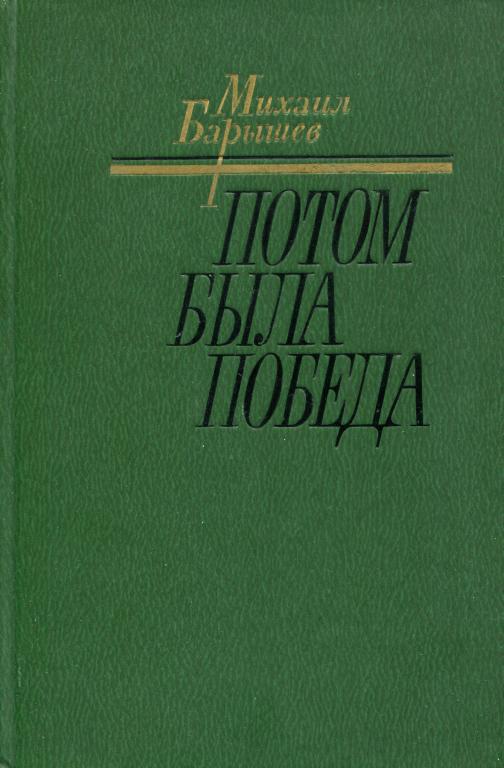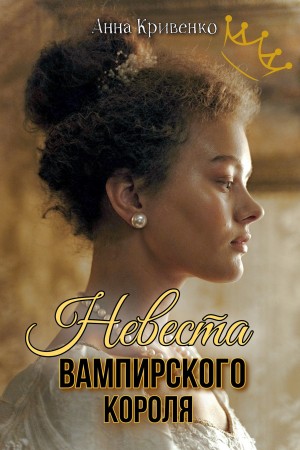Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книгу вошли роман «Потом была победа» — о героических событиях Великой Отечественной войны и рассказы о войне, о людях Севера, о детях.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Иванович Барышев»: