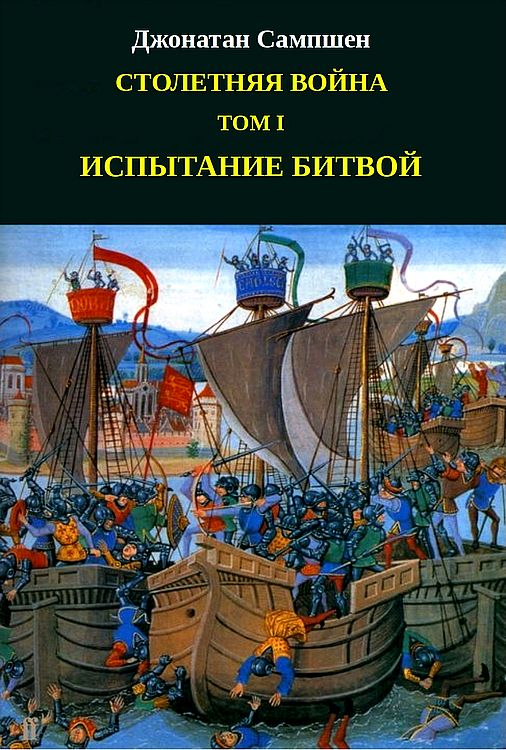Шрифт:
Закладка:
Мари-Анри Бейль, известный всему миру под псевдонимом Стендаль, – один из самых популярных французских писателей и основоположник психологического романа. Книги «Красное и черное» и «Пармская обитель» обеспечили ему почетное место в пантеоне классиков европейской литературы. В число наиболее значительных произведений Стендаля необходимо включить также третий, не оконченный автором, однако не менее знаменитый роман «Красное и белое» (другой вариант названия – «Люсьен Левен», по имени главного персонажа). Многое объединяет Люсьена Левена с героем романа «Красное и черное» Жюльеном Сорелем. Он так же благороден, умен, готов к великим делам, пылок сердцем и страстно мечтает о счастье. Люсьен – сын могущественного и влиятельного банкира, и кажется, что его ждет счастливая, легкая жизнь. Однако трагическая влюбленность, политические интриги и козни завистников заставляют Люсьена сражаться за свое счастье, используя любые средства…В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.