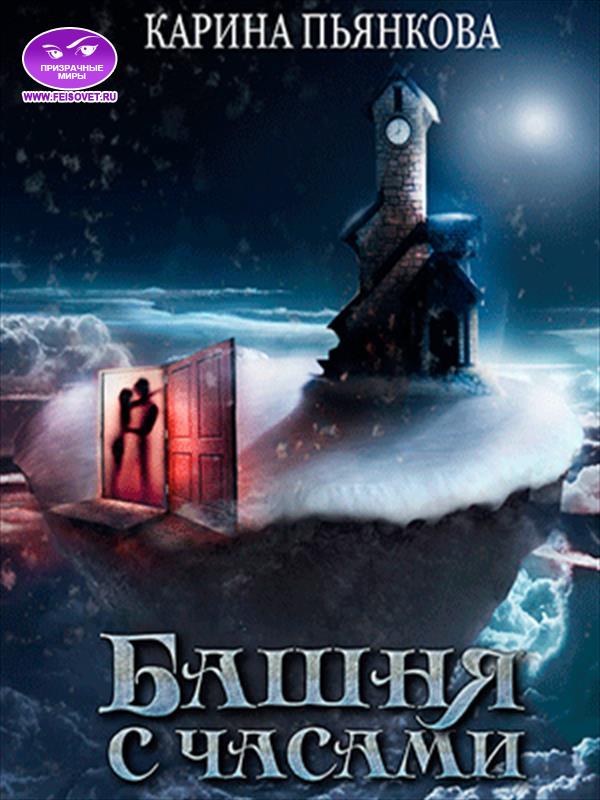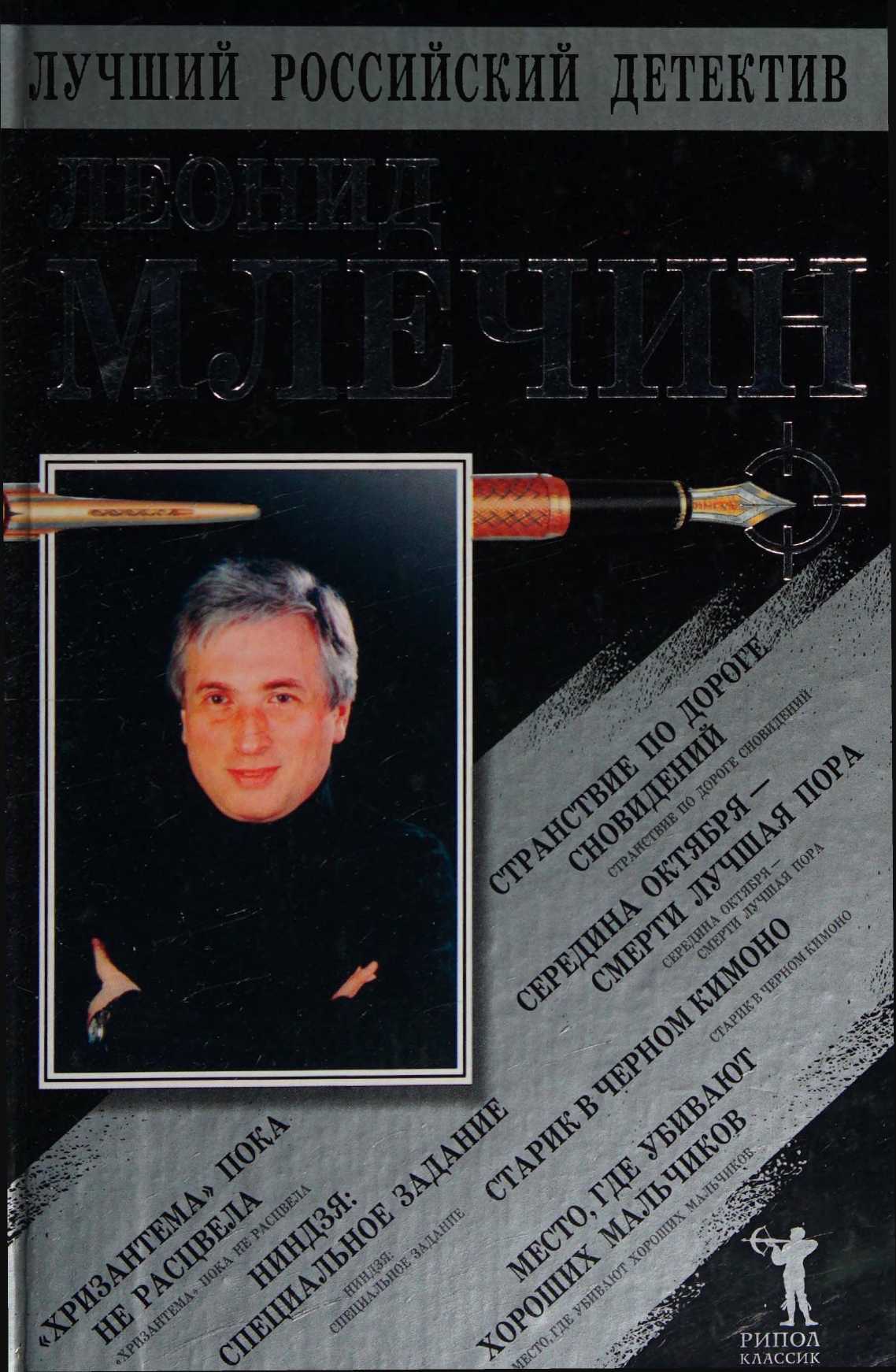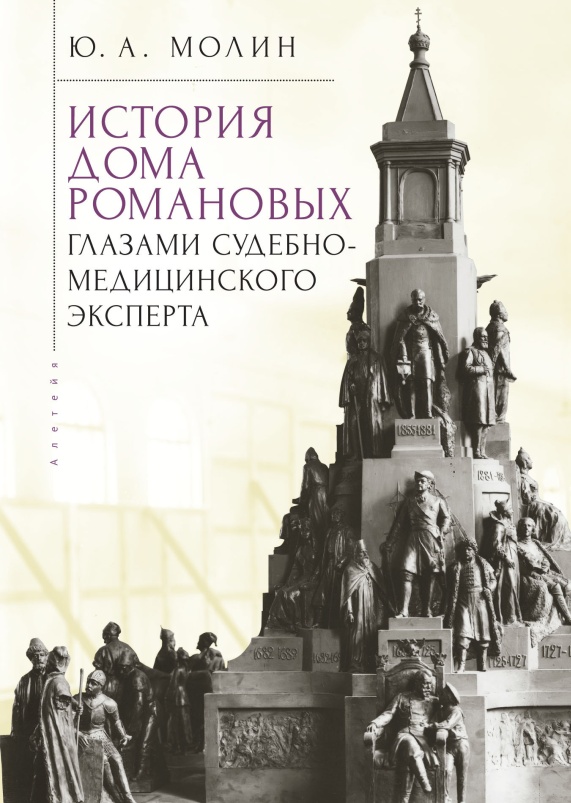Шрифт:
Закладка:
Улыбка была самым сложным элементом, и я оставила ее напоследок. Она должна была стать фокальной точкой: тем, на что взгляд упадет в первую очередь. Тем магнитом, вокруг которого по собственным осям будут обращаться все прочие элементы. От улыбки зависела судьба портрета: будет ли он уничтожен или станет достоянием моего портфолио. Она не была идеальной, эта улыбка. Достаточно белой для любителя кофе и достаточно ровной для земного обывателя. Но сколько же в ней было теплоты, доверия и внутренней силы! Неудивительно, что на эти миллиметры холста я наносила краску почти точками в течение двух с половиной часов.
Когда портрет был закончен, я развернула его лицом к стене. Он получился до того реалистичным, что я не могла выдержать его взгляда без того, чтобы сердце не отзывалось тоскливым стоном. За окном светало, но вместо лекций по плану, я вернулась домой, приняла душ и без сил рухнула в незаправленную постель. Мне не снились сны.
Я снова прервала чтение, пытаясь вспомнить, был ли среди портретов портрет Франческо. Я помнила, что видела старуху с кубинской сигарой, и пианиста, и даже, кажется, подростка, но был ли там портрет улыбающегося очкарика ускользало из моей памяти. Пришлось вернуться в кладовую и осторожно перевернуть полотна, оставленные лицевой стороной к стене. Мимо. Два оставшихся портрета — это пухлогубая девушка (неужели Сара?) и старик-монах с жестоким ртом и воротничком сутаны, впивающемся точно удавка в толстую шею.
Я выпила стакан воды, походила по комнатам, пытаясь успокоиться, и снова вернулась к брошенному на полу дневнику, волнуясь и сгорая от предвкушения одновременно. Следующая глава мне далась тяжело.
9 октября, воскресенье
Все было неправильно. Все, с самого начала.
Первая фальшивая нота прозвучала, когда он открыл мне дверь в коричневых слаксах и фисташковом поло, вместо привычных глазу рубашки и галстука. Не то что бы я ожидала, что и дома он будет застегнут на все пуговицы, скорее, просто не задумывалась, что он может выглядеть как-то иначе, чем образ, уже сотканный в моей голове. Его расслабленный, домашний облик заставил меня почувствовать шаткость собственного положения. Если раньше мы играли по ролям: он — профессор, я — студентка; то теперь, вновь вторгаясь на его личную территорию, я заставляла его выйти из роли наставника, низвергая до себе равного. И я не знала, что можно ожидать от такой рокировки. По-хорошему, его как человека я не знала совсем.
— Анна?
Прежде чем пригласить меня внутрь, Палладино улыбнулся мне уголком рта: приветливо, но чуть-чуть презрительно, а еще будто бы понимающе. Его вид говорил, что он раскусил мой маневр, и в общем-то в глубине души его ожидал. В отличие от его прекрасной улыбки, в этой полуусмешке не было ничего лучезарного: она портила гармонию его черт, разрезая лицо на две несимметричные половинки. И это была вторая фальшивая нота.
По всей видимости, я прервала его ужин: на столе стояла тарелка с недоеденной пастой, рядом — бокал красного вина. Проигрыватель разносил по квартире музыку: что-то из классики, смутно знакомое, но я была слишком взбудоражена, чтобы вспомнить что именно.
Он явно знал, как жить со вкусом. Об этом свидетельствовало и изысканное убранство квартиры, и безупречно накрытый стол, да и сама неправдоподобность ситуации, когда одинокий мужчина, вместо того чтобы развалиться на диване перед телевизором, ведет себя как персонаж фильма шестидесятых.
Впрочем я сама была из того же теста. Наблюдая, как я разглаживаю постель, пока на покрывале не будет ни складочки, Марк часто обвинял меня в обсессивно-компульсивном расстройстве. Он просто не понимал, как много значили для меня красота и порядок. Мне было не жаль ни времени ни денег ни собственных сил, лишь бы все вокруг было идеально.
И надо же: где-то существовал человек, который был способен это понять. Жизнь Франческо Палладино была воплощением той абсолютной красоты, которую я искала. Но как бы я ни хотела, дорога в этот совершенный мир была мне заказана, ведь она шла через некрасивый, недостойный поступок, которого я, хотя бы из эстетических соображений, позволить себе не могла.
Это рвало меня на части. Это делало меня неполноценной. Я слишком остро чувствовала, насколько все это уже было неправильно. И все равно мне отчаянно хотелось, чтобы стало еще неправильнее.
Мне следовало извиниться за беспокойство, но вместо этого я сказала:
— Профессор, я тут кое-над чем работала и пришла узнать ваше мнение. Можно? Я очень хочу, чтобы вы посмотрели.
Он мог бы мне отказать. Он мог бы найти вежливый предлог, чтобы выставить меня за дверь. Он мог бы, наконец, взглянув на портрет, дать мне парочку рекомендаций и отправить восвояси. Но он этого не сделал.
И когда я, нервничая и часто облизывая пересохшие губы, достала портрет и положила на стол перед ним, он воззрился на него почти с плотоядной жадностью. Казалось, еще немного и он бросится к нему и начнет раздирать его зубами в клочья.
Зазвучала другая композиция. В этот раз я ее узнала. Первый концерт Рахманинова. Я слушала его вчера вечером по дороге домой, и это невозможное совпадение стало для меня благословлением. Иди, сказал мне внутренний голос. Иди до конца и ни о чем не жалей.
— Это ведь Рахманинов? — прервала я загустевшую тишину, хотя заранее знала ответ.
— Тоже любишь Рахманинова? — хрипло спросил он.
Я молча кивнула:
— Портрет…
— Мощный как удар в живот. Я не подозревал, что ты на такое способна. Я, честно говоря, в шоке. Хотя польщен. Но все же… ты заблуждаешься на мой счет.
Он еще много-много говорил, а я совсем не слушала: я читала его лицо. На щеках загорелся румянец, а глаза возбужденно искрились. Сомнений быть не могло.
— Я постаралась сделать, как вы сказали. Выразить не то, что на душе у персонажа, но то…
— Я понял, — перебил он, а потом вдруг радостно рассмеялся, поднося портрет ближе к свету и любуясь им, точно Нарцисс, вглядывающийся в поверхность озера.
Конечно, он должен был понять, что я призналась ему в любви. И уже тогда я знала, чем все закончится.
Какое-то время мы молчали, наслаждаясь моментом. Рахманинов все звучал, октавами низвергаясь в пустоту, пока пол медленно уходил у меня из-под ног. А потом Франческо наклонился вперед, и еще до того, как наши губы встретились, мое сердце тоже обрушилось