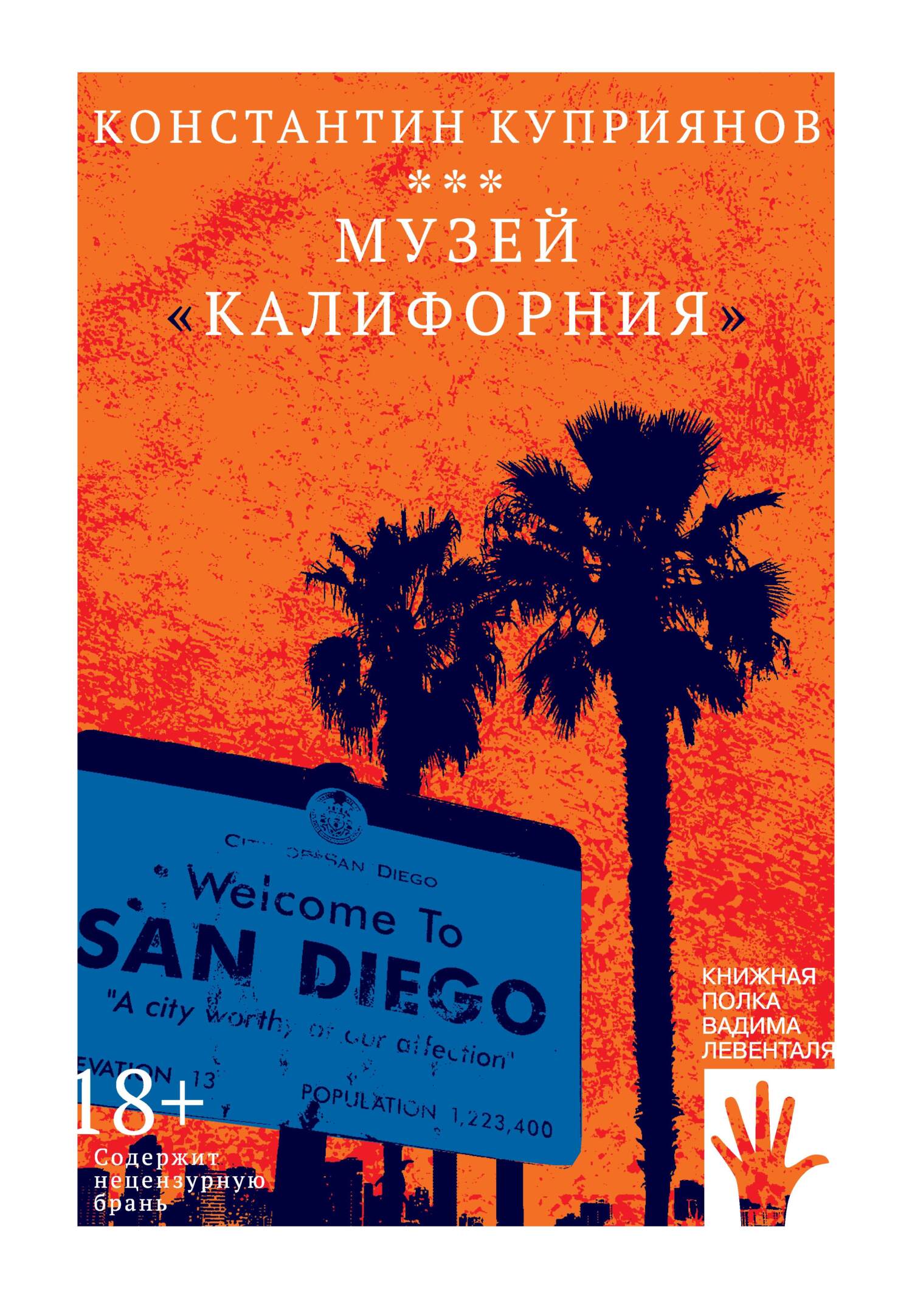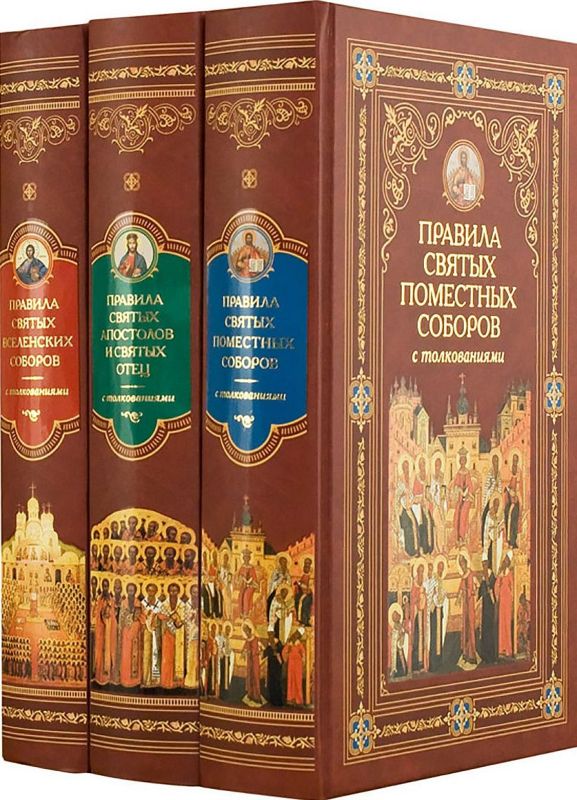Шрифт:
Закладка:
«Загадочное блаженство, чью природу мне не удалось постичь, было связано с неким местом, о котором я долго полагал, что оно существует лишь в моих сновидениях: обрыв за гороховым полем. На самом краю этого обрыва деревянный мухомор и железные качели, но, кроме мухомора и качелей, никаких намеков на детскую площадку, а если смотреть с обрыва вниз – там расстилалась местность, которая казалась мне потусторонним миром: невзрачная, заросшая какой-то дикой и буйной зеленью, а у самого подножия обрыва можно было различить остов старого автомобиля без колес и стекол, совершенно ржавый и насквозь проросший травой.Часто я видел это место в своих младенческих снах. Часто это место просто являлось в моем сознании – без приглашения, скромно и дерзко обнажая свою непостижимую и ничем не заполненную тайну. И каждый раз. находя в себе этот обрыв за гороховым полем, я испытывал пронзительное и непонятное наслаждение, нечто совершенно экстремальное – подобное, наверное, испытывает обожатель парашютной эйфории, вываливаясь из своего самолета…»В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.