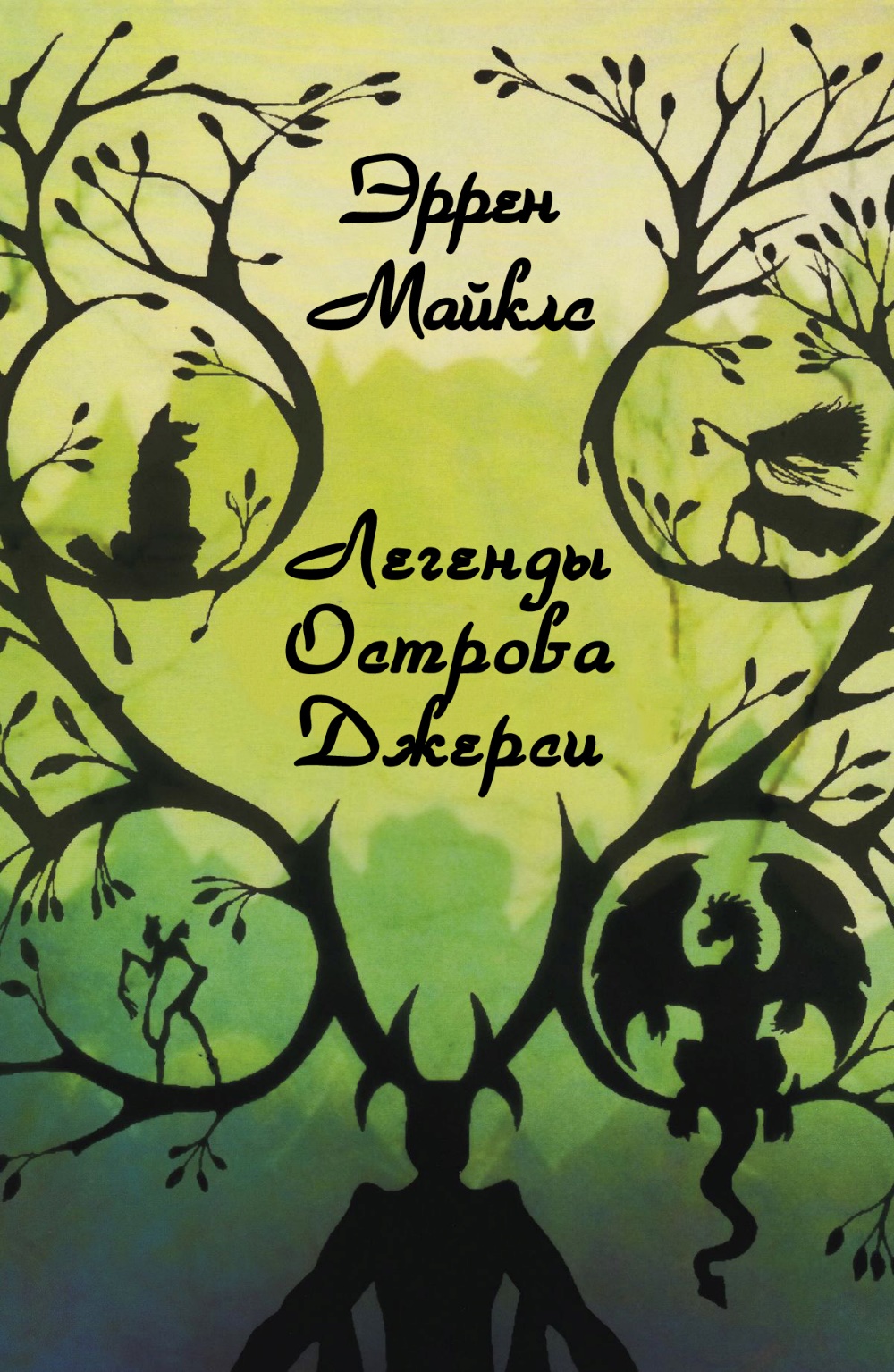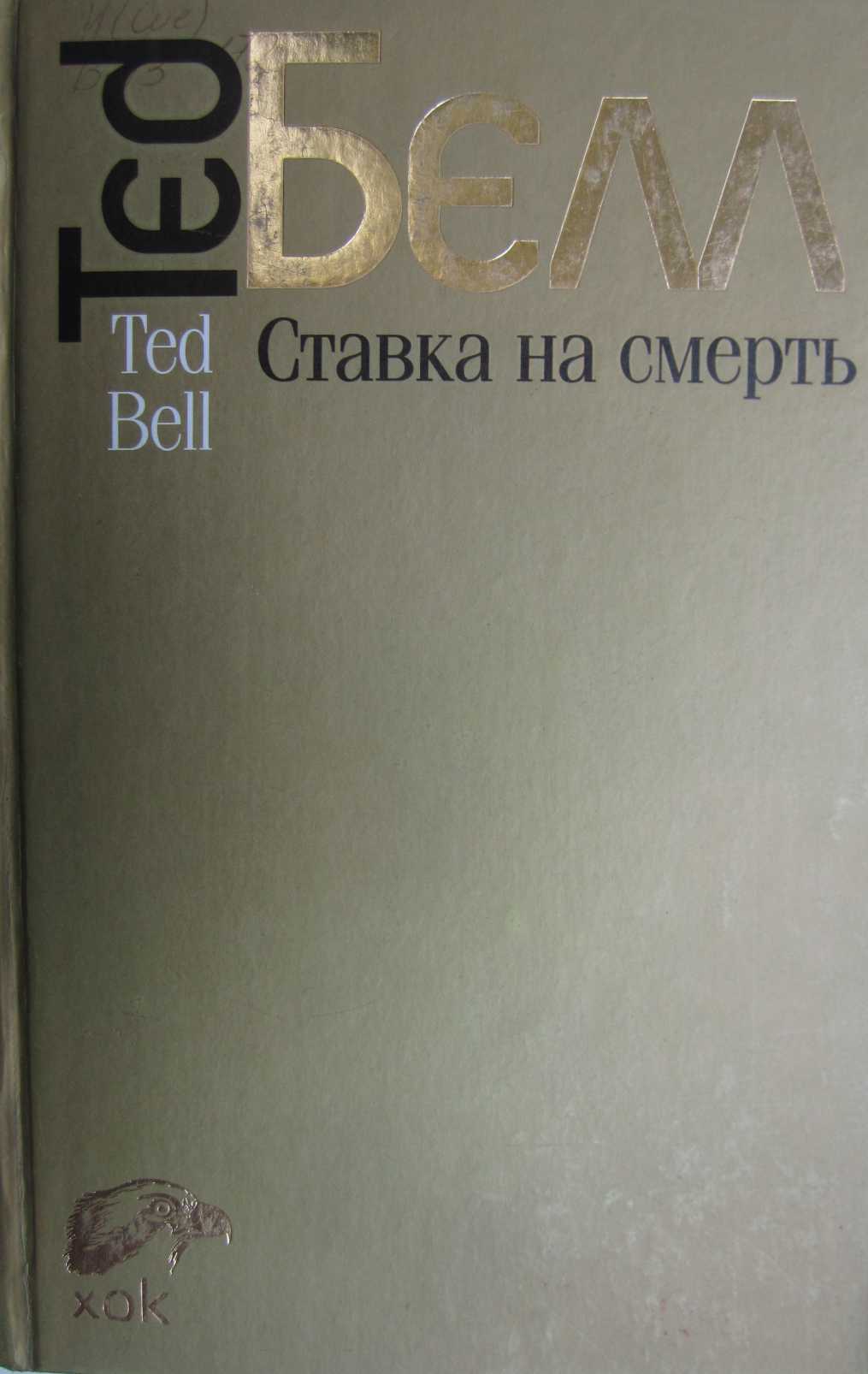Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Закройте окна. Заприте двери. В этом городе никто из старожилов не празднует Хэллоуин. Выкиньте конфеты в мусорное ведро. Не открывайте незнакомцу. И до рассвета молитесь. Быть может, тогда останетесь в живых.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Снежинская»: