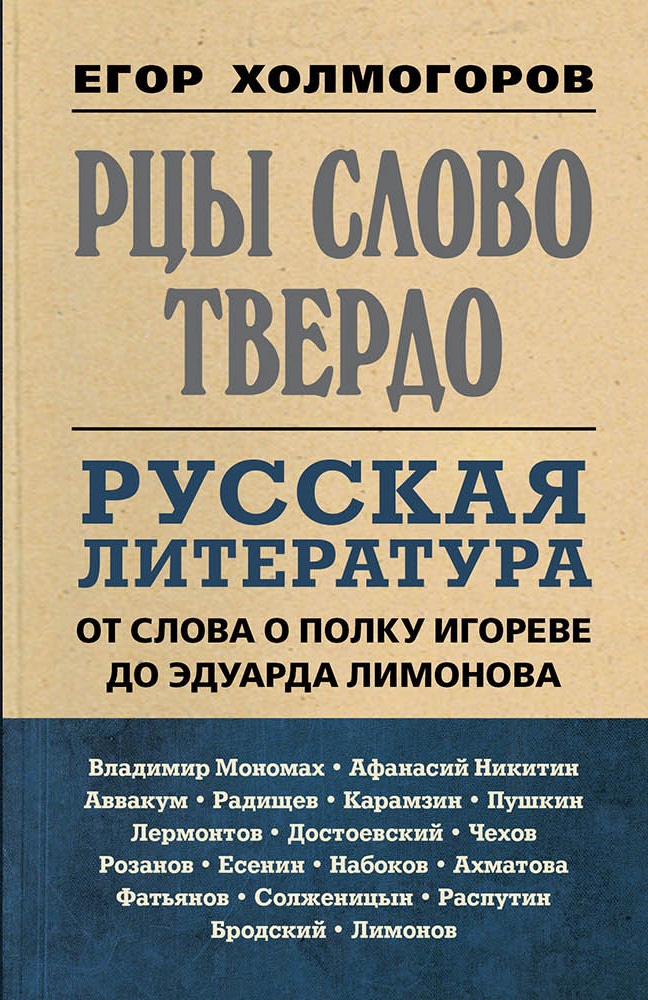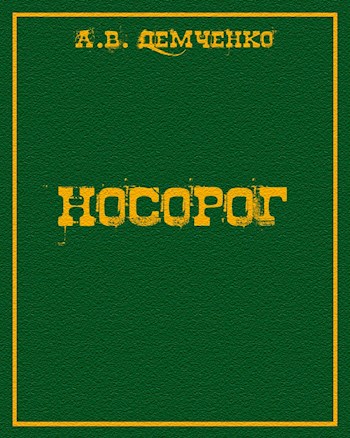Шрифт:
Закладка:
В новогодние праздники загуляли с Фадеевым. Оба были молоды, крепки на выпивку, полны сил. Обоим улыбалась удача. Кажется, с пьяных глаз отлично почудачили. В январском письме Фадееву Шолохов пишет: «Без улыбки не могу вспоминать, как нас разогнал Генрих Григорьевич. Хороший он парень, но обложил нас, что называется, за зря… Или нет?»
Генрих Григорьевич – это Ягода.
Пили в гостях у некоего Павла, упомянутого в письме. Неужели Павла Петровича Постышева? Секретарь ЦК ВКП(б) и заведующий Организационно-инструкторским отделом ЦК ВКП(б) – он напрямую занимался и делами литераторов тоже.
То ли на радостях, после нервного перенапряжения, то ли по хмельному делу нагулялся распахнутый настежь по Москве. По приезде в Вёшенскую на девять дней свалился с температурой 40 и только в десятых числах вернулся к рукописи «Поднятой целины». Теперь уже было не отвертеться – хочешь не хочешь, а в «Новый мир» сдавай новые главы. То же и «Тихого Дона» касалось: начали публиковать – веди роман к финалу.
В апреле 1932-го Шолохов с юморком пишет Левицкой: «Ни единого “выходного” не было, вокруг меня одни и те же, страшно прискучившие мне люди (по “Т. Дону” вперемежку с новыми из этой раззлосчастной “Целины”); все они какие-то непохожие друг на друга, потрясающе разные… Тут и повстанцы, и колхозники, и белобандиты, и пр. Вы понимаете моё положение?»
Едва ли не лучшие страницы своей прозы пишет Шолохов в ту зиму-весну: в лихой его голове уживаются разом Мелеховы, Аксинья, Кудинов, Давыдов, дед Щукарь, Макар Нагульнов и его Лушка.
«Поднятая целина» будет идти в «Новом мире» подряд – по девятый, сентябрьский номер. Пока публикуют написанные главы, Шолохов делает новые.
В этом романе особенно ценно ощущение многоголосья. Раскрываешь книгу – и словно на собрание попал в Гремячьем Логу – ругаются, кричат, смеются, плачут, проклинают, славят… Видно, что автор слышит, различает и может передать множество интонаций и голосов. Что он молод, неукротимо любопытен к жизни.
Да, порой возникает ощущение, что роман написан наспех. Иной раз будто набрасывает краски, не прописывая те детали, что так ценны в лучших из ранних рассказов или в «Тихом Доне» – тончайшие психологические оттенки характеров, перемены погоды, символическую тайнопись на вторых планах. Нет-нет, да и встречаются совершенно банальные сравнения: слёзы «светлые и искрящиеся, как капельки росы», знамя «кипуче горит, струится, как льющаяся алая кровь». Но – парадокс гения! – невзирая на торопливость и некоторую даже нестарательность, всё равно чувствуется мощь замаха. Всё живое там, всё правда.
Казаки – шумные, нелепые, добрые, озлобленные, пахнущие – живут. Живые отношения возникают между мужиками и бабами: здесь Шолохов уже привычно выказывает себя знатоком сердечных дел. Оживает злодейский есаул Половцев, ставший образчиком изображения белогвардейцев и в литературе, и в театре, и в в кино – до самых 1960-х годов. Сменивший его на тайном постое в Гремячьем Логу заговорщик Лятьевский – не менее, казалось бы, ходульный, – вскоре становится зрим и слышен, его угадываешь, распознаёшь, запоминаешь. Такое ощущение, что встреть его в жизни – тут же воскликнешь: да вы ж Лятьевский, я про вас у Шолохова читал!..
* * *
Фадеев теперь писал ласковые письма: он будет относиться к Шолохову по-настоящему хорошо, ценя его прямой, правдивый, смелый характер – признавая в нём такого же бойца, каким был сам, а в смысле писательском отдавая себе отчёт и от других не скрывая, что Шолохов в русской литературе во всём их поколении – первый. Зато Фёдор Панфёров слал в станицу Вёшенскую обиженные послания: нет бы Шолохов с ним лично решил всё по публикации «Тихого Дона» – а Миша вон что: через его голову до самого Сталина дошёл…
Панфёров в политических иерархиях той поры – фигура, весящая пока ещё больше Шолохова. 15 апреля 1932 года нарком просвещения Александр Бубнов направляет в ЦК – Кагановичу – письмо, посвящённое наиважнейшей теме: развитию советского кино. К письму прилагался список утверждённых сценаристов. Первая десятка выглядела так: 1. Демьян Бедный. 2. Панфёров. 3. Фадеев. 4. Шолохов. 5. Гладков. 6. Шагинян. 7. Леонов. 8. Катаев. 9. Безыменский. 10. Ставский.
Фамилию Бедного можно не брать в расчёт – он неизбежно должен был возглавить этот список как партийный литератор, проживающий в Кремле. А дальше показательный расклад: Шолохов пока ещё третий, Панфёров на уровне Наркомпроса весной 1932-го считается главной литературной фигурой.
Он об этом, конечно, знал. Невзирая на самое высокое партийное внимание к шолоховскому роману, во втором номере «Октября» Панфёров отомстит и вырежет из публикации несколько наиважнейших кусков текста. «Зарезали они меня, – напишет Шолохов Левицкой в апреле, – несмотря на договорённость. А я этак не хочу. Видимо, дело с печат<анием> 3 кн. придётся всерьёз отложить до конца 2 пятилетки».
Исчезла вся 23-я глава с описанием поездки Петра Мелехова за телом расстрелянного Мирона Коршунова, финал 34-й главы – горе Мелеховых при виде расстрелянного Петра, фрагмент 30-й главы с рассказом казака-старовера о произволе комиссара Малкина, а также слова политкома в 40-й главе о всё том же Малкине: «Сейчас он эвакуирует в глубь России мужское население станиц».
Иван Павлович Малкин в 1932 году – слушатель трёхмесячных курсов руководящих работников ОГПУ. По Москве ходит. На отличном счету у руководства. Шолохов вполне мог знать, что Малкин идёт вверх по служебной лестнице, но хватки своей отпускать не собирался. Беспримерное мужество двигало этим человеком. Что-то воистину мелеховское в этом было – наотмашь, безоглядное. Он не желал прощать Малкину бессудно убитых казаков и посягательств на его Марусю Громославскую. Может, Малкин её пытался изнасиловать? Надо ж было Шолохову так вцепиться в этого чекиста!
Писатель потребовал отдельно опубликовать все вырезанные фрагменты, угрожая в противном случае снять публикацию романа в «Октябре».
В четвёртом, апрельском номере «Октября» публикация «Тихого Дона» была приостановлена.
* * *
Панфёров вполне мог принимать подобные решения лично.
РАПП сам себя убедил в том, что он диктует власти идеологию и повестку, зачастую опережая государство.
Взбешённый Шолохов мог бы снова обратиться к Сталину, но в ту весну его несравненно больше волновали иные события. И это снова придаёт его характеру совсем другое измерение. 22 марта в «Правде» он наносит очередной удар по партийному донскому руководству: «В северодонецком совхозе № 23 Скотоводтреста на зимовку стало около 29 000 голов скота, преимущественно молодняка, закупленного в колхозах в 1931 году. К настоящему времени поголовье уменьшилось до 26 000. Чем объясняется такой чудовищный “отход”? Кто повинен в падеже столь огромного количества драгоценного молодняка?»
И тут же даёт ответы: «Совхоз, собрав около 29 000 голов скота, 7000 разместил на своих базах, а остальной скот, вручённый гуртовщикам, уже по глубокому снегу начал скитаться в степи, перегоняемый от хутора к хутору. Однажды стадо телят, застигнутое