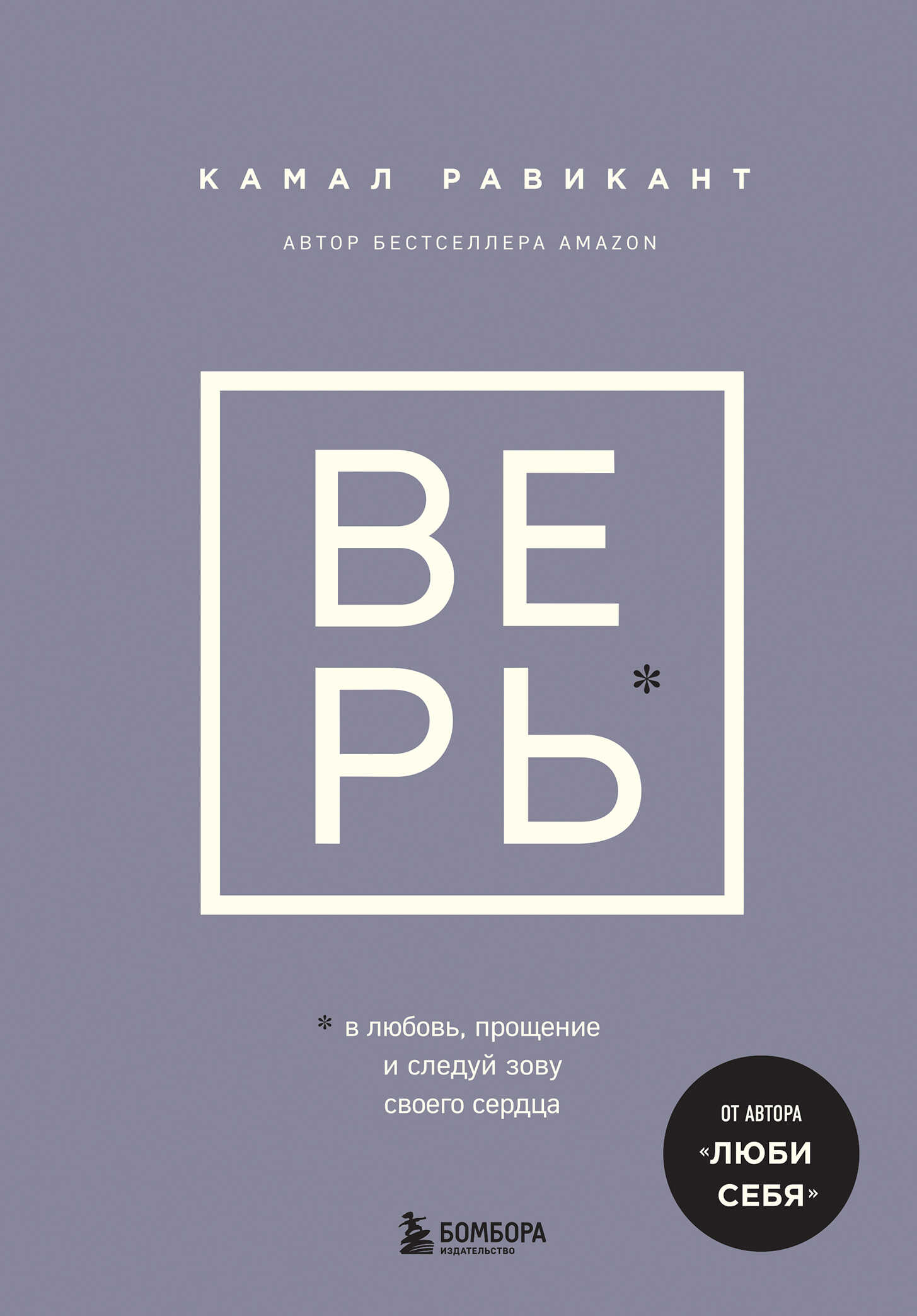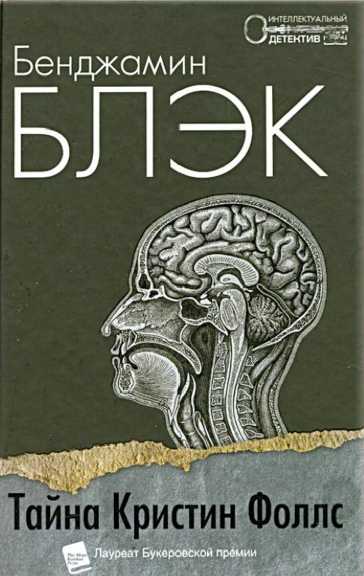Шрифт:
Закладка:
После смерти отца Амит переносит прах своего родителя в священные воды Ганга, чтобы совершить древний ритуал. Потеряв веру в будущее, он решает не возвращаться домой, а отправляется в 37-дневное блуждание в поисках настоящего себя. Внезапное путешествие ведет его к таинственному Камино де Сантьяго – древнему паломническому маршруту через северную Испанию.Почти сломленный, потерявший ориентиры и бегущий от воспоминаний, Амит встречает по пути людей, каждый из которых несет свою боль. Именно они открывают главному герою новые горизонты и помогают услышать зов своего сердца.Будьте готовы к бесценному и лирическому паломничеству внутрь себя в этой красивой истории, которая подобно ветру нежно прикоснется к вашей душе.Основана на прохождении автором легендарному пути Сантьяго и рассказана в лучших традициях Пауло Коэльо и Митча Элбома.