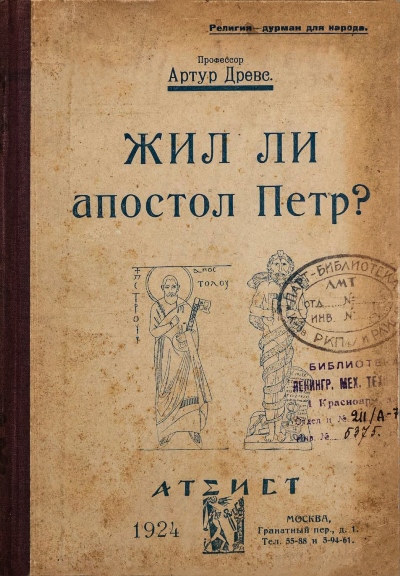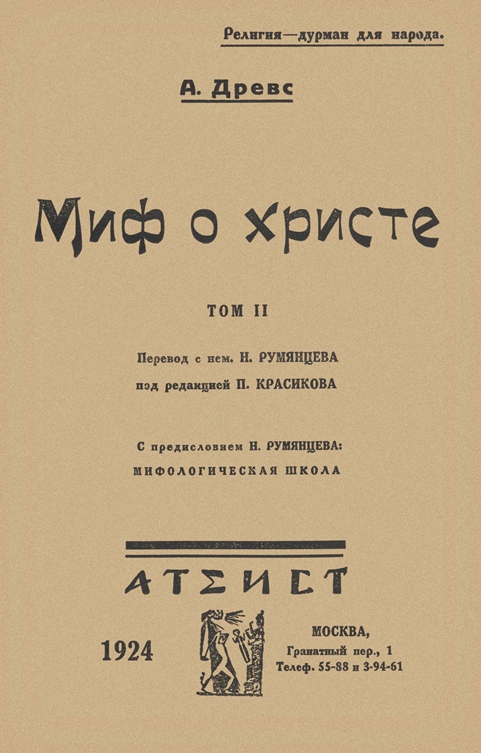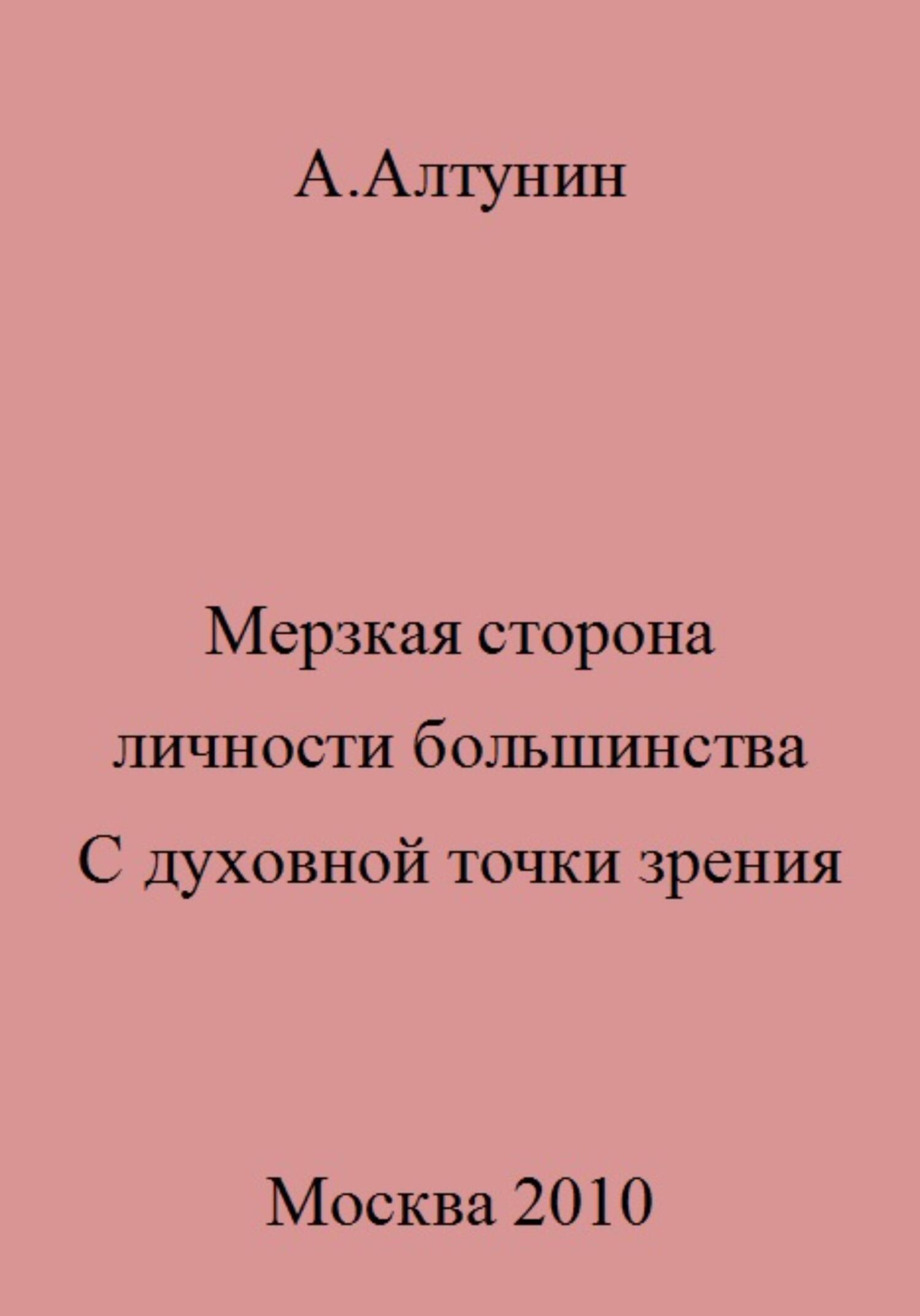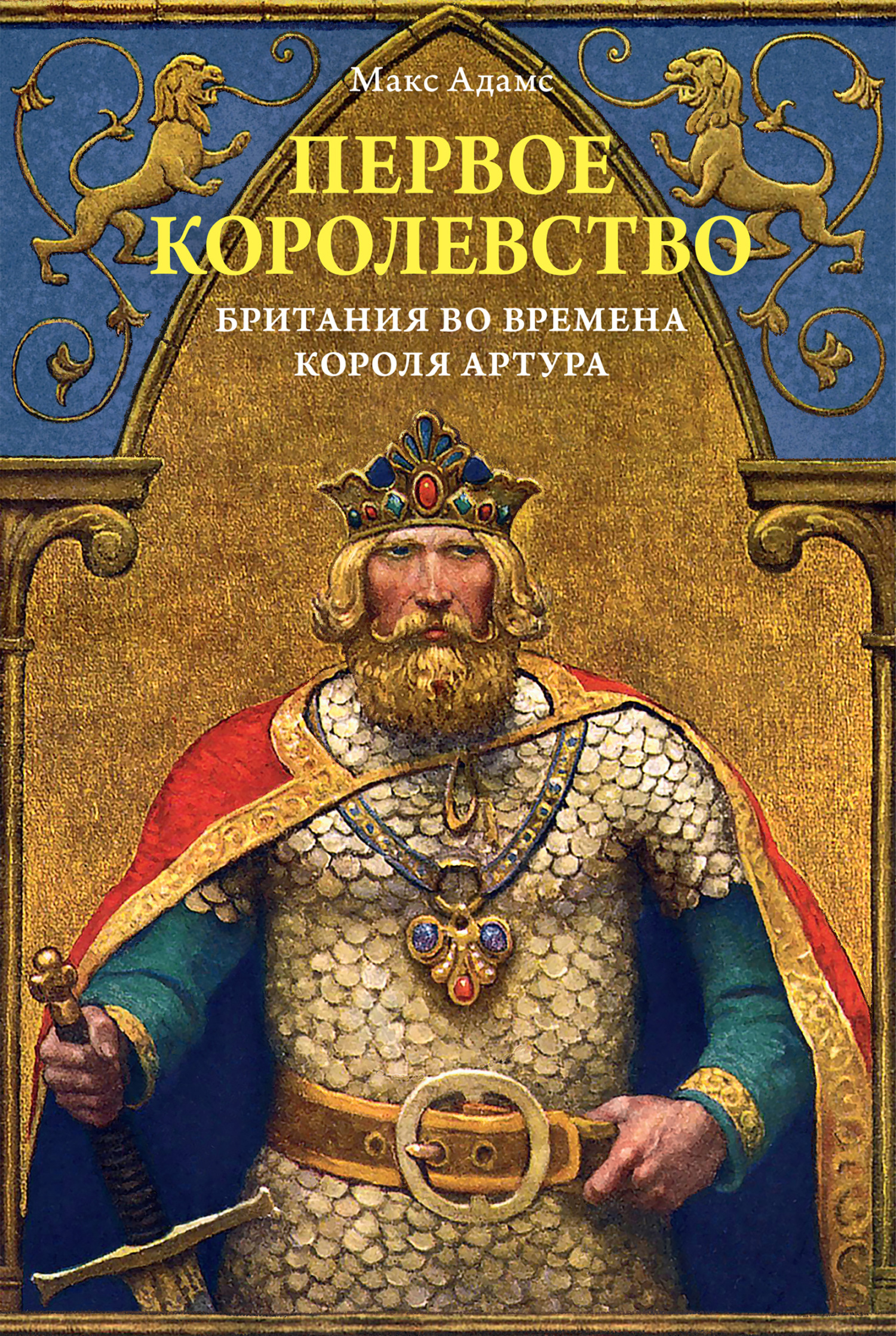Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Артур Древс (1865-1935), немецкий философ-идеалист, последователь Э. Гартмана. Древс ведёт длительную и настойчивую борьбу за доказательство мифологичности Иисуса Христа. Последней крупной работой Древса по первоначальному христианству является «Происхождение христианства из гностицизма», опубликованная в 1924 году. Здесь тезис, сформулированный автором в заголовке, раскрывается одной гранью: в образе евангельского Христа не может быть никаких исторических предпосылок.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Артур Древс»: