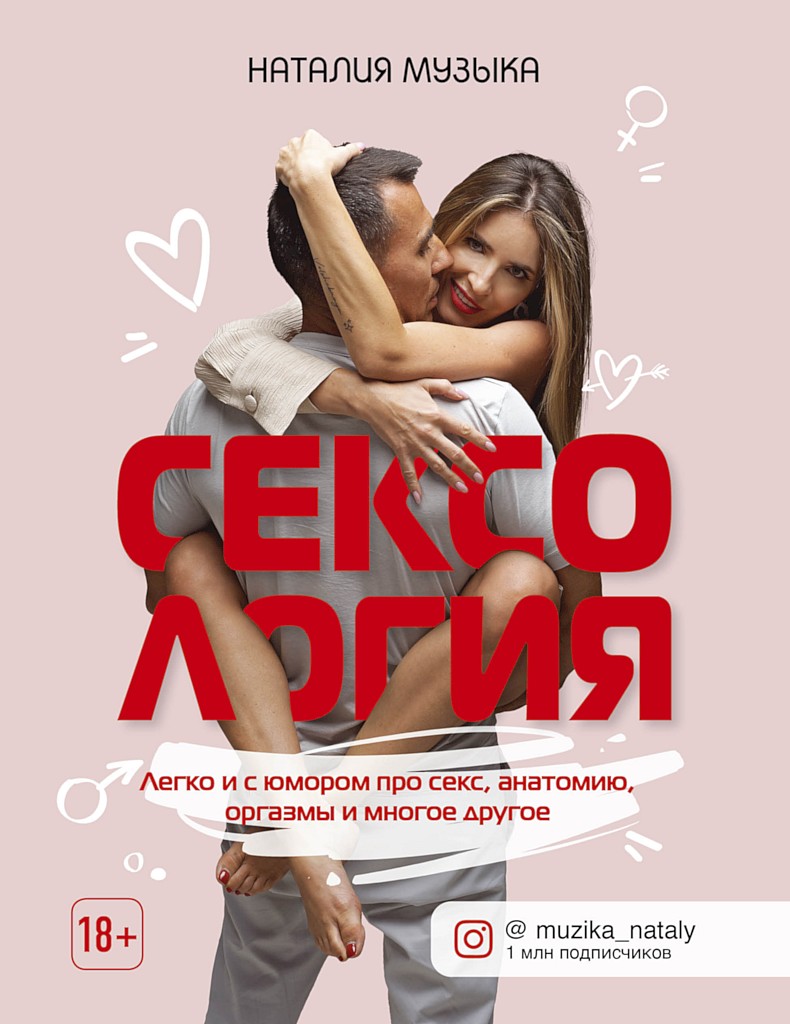Шрифт:
Закладка:
1913 год. Ирландия. Юная Эмили Десмонд убеждена, что встретилась с фейри, в то время как ее отец пытается построить машину для установления контакта с инопланетянами. Он убежден, что приближающаяся к Земле комета Белла – это корабль, летящий к нам со звезды Альтаир. Середина 1930-х годов. Официантка Джессика Колдуэлл начинает сталкиваться со странными феноменами в совершенно реальном Дублине и постепенно приходит к выводу, что ее фантазии склонны обретать плоть. Одновременно с этим в город прибывают два таинственных незнакомца, у которых есть миссия: охранять наш мир от пришельцев из вне. Конец 1980-х годов. Энья Макколл, сотрудница рекламного агентства, с помощью своих сверхъестественных способностей по ночам уничтожает монстров, воплощения человеческих кошмаров и фантазий. Грани между мифом и реальностью истончаются, битва Эньи, страдающей от одиночества и усталости, казалось бы, проиграна, но причины разрушения мира вокруг нее таятся в начале века, в юной Эмили Десмонд, когда-то увидевшей фейри. Три времени, три истории, три героини и их встречи с темной стороной человеческого мифосознания, а также с тайнами собственного прошлого. Но мир легенд и мир фейри обманчив, и никому нельзя доверять в попытках вырваться из его цепких объятий.