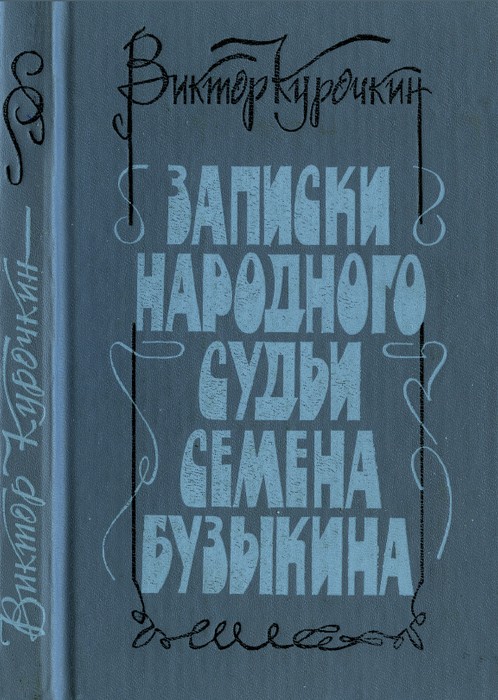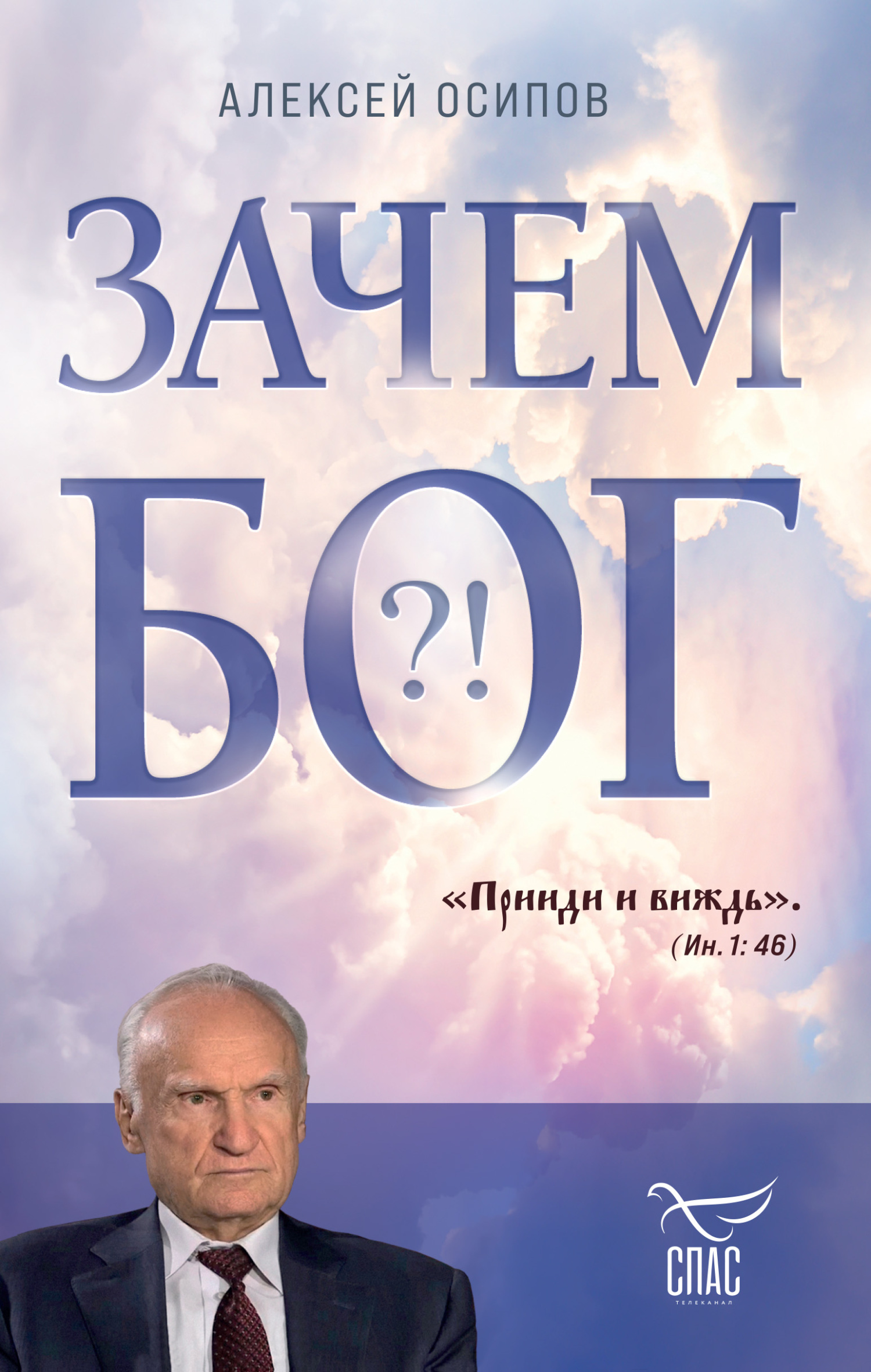Шрифт:
Закладка:
Реальная история, которая легла в основу сериала «Убойный отдел», от Дэвида Саймона – лауреата премии «Эдгар», создателя культовой «Прослушки», «Мы владеем этим городом», «На углу» и «Двойки» с Джеймсом Франко в главной роли.Саймон был первым репортером, получившим неограниченный доступ в убойный отдел, и эта захватывающая книга рассказывает о целом годе, проведенном на жестоких улицах американского города.Место действия – Балтимор, где постоянно кого-то застреливают, зарезают или забивают до смерти. В центре этого урагана преступности находится убойный отдел, маленькое братство суровых мужчин, которые борются за справедливость в этом жестоком мире. Среди них: Дональд Уорден, опытный следователь; Гарри Эджертон, черный детектив из преимущественно белого подразделения; и Том Пеллегрини, новичок, который берется за самое сложное дело года – жестокое изнасилование и убийство одиннадцатилетней девочки.