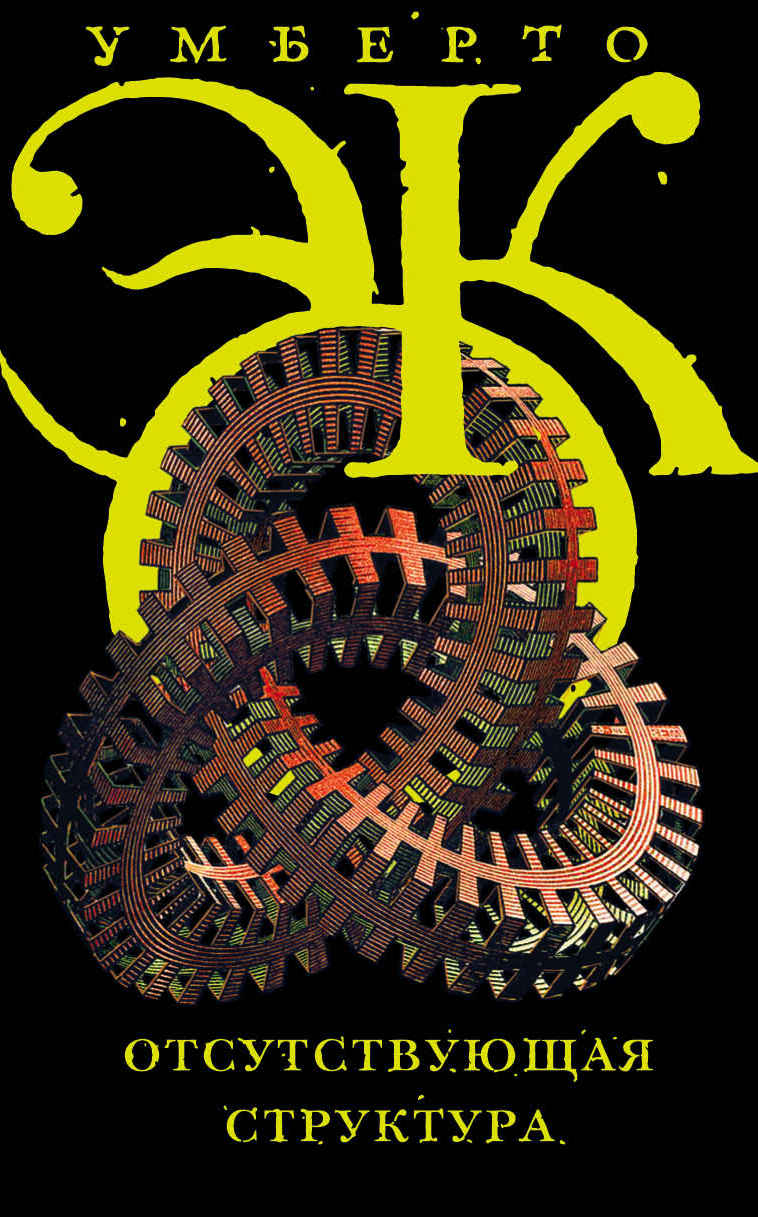Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Мировую славу Умберто Эко получил после выхода романа «Имя розы» (1980), ставшего классикой. В академической среде фигура Эко не менее масштабна. Выдающийся семиолог, медиевист, культуролог, почетный профессор многих университетов Умберто Эко рассматривал общие проблемы семиотики, взаимоотношение семиотики и психоанализа в сфере архитектуры, кино, современной живописи, музыки, рекламы. В числе работ итальянского исследователя – десятки научных трудов, новелл, сказок, философских трактатов. «Отсутствующая структура» – одно из самых знаменитых произведений Эко-ученого.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Умберто Эко»: