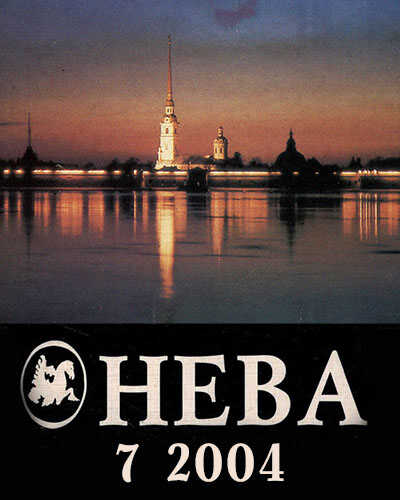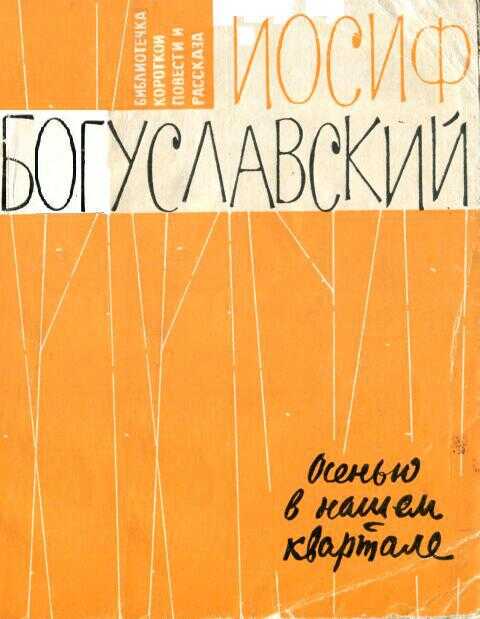Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Опубликовано в журнале Нева, номер 7, 2004. Статья о последних днях жизни Антона Павловича Чехова.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Руслан Тимофеевич Киреев»: