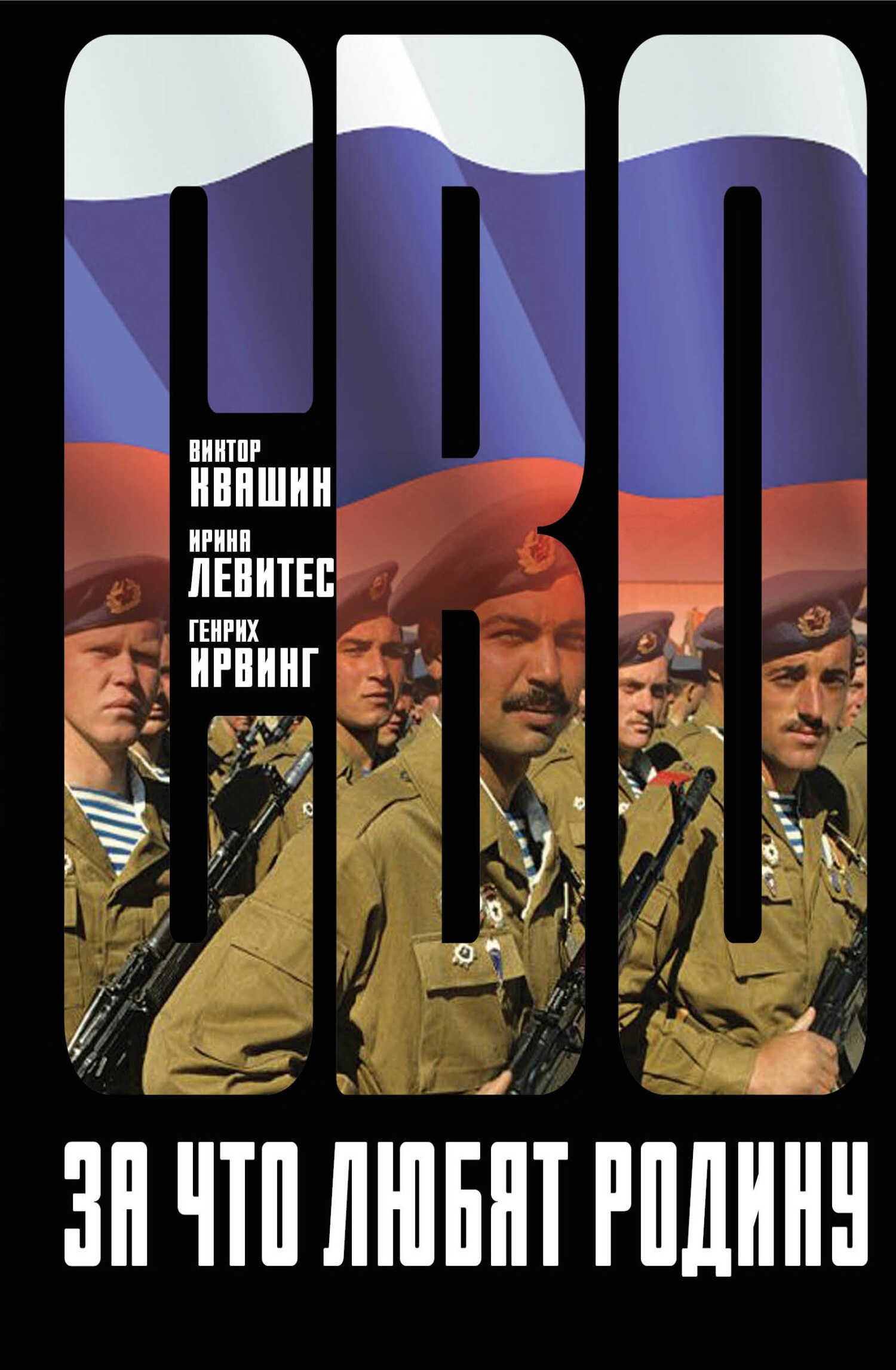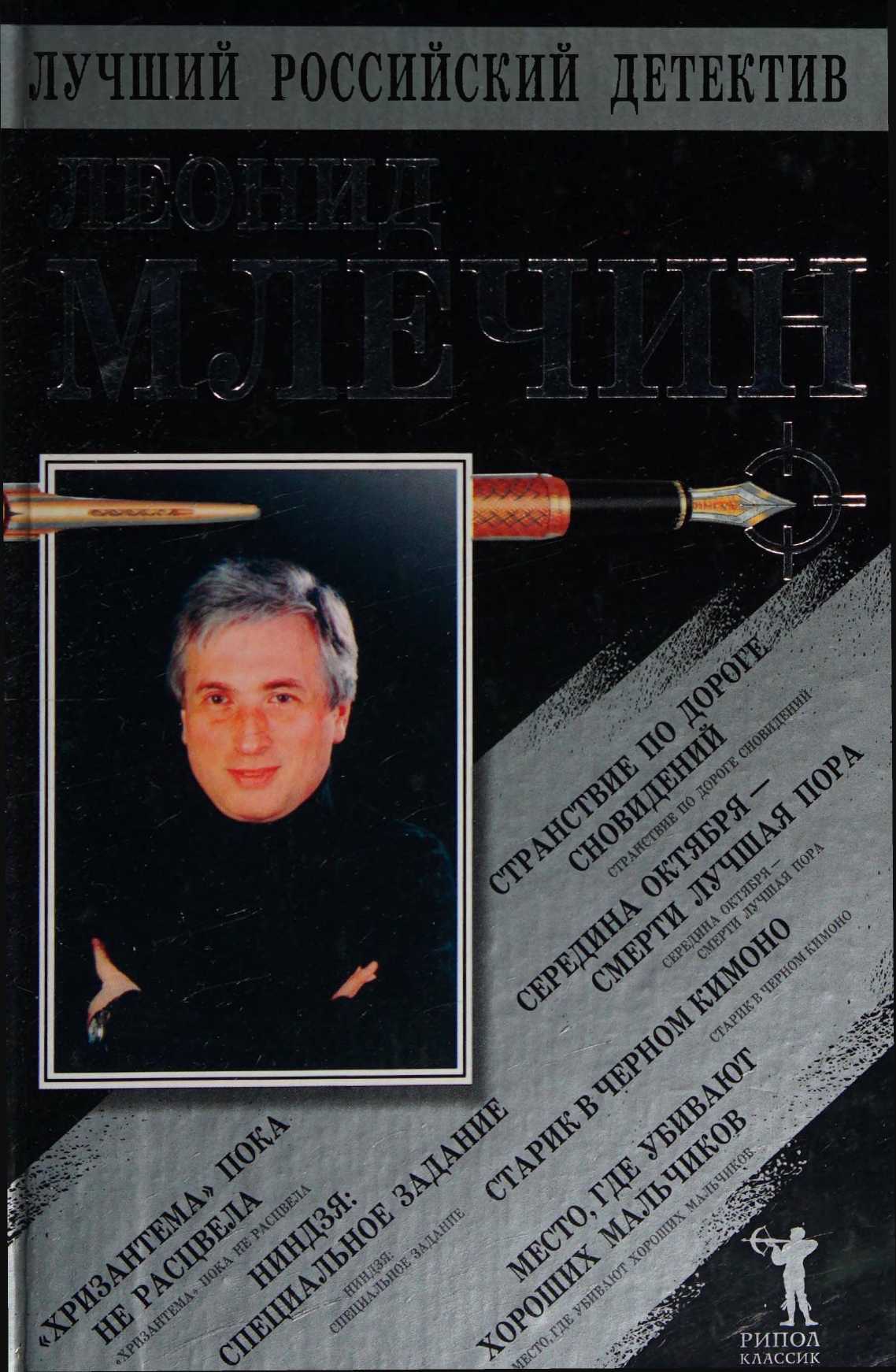Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сборник включает малые литературные формы – рассказы и главы из книги. К событиям, связанным с военными действиями, в которых участвовали Россия и Советский Союз добавляются Первая мировая война («Солдатки») и антитеррористическая операция в Чечне («Контрабасы или дикие гуси войны»).Общий мотив остается прежним, как и в предыдущих сборниках «Прописи войны» и «Мы воюем за жизнь» – человек на войне или в предчувствии войны. Помимо собственного выбора человека быть или не быть в условиях войны, стать воином или нет, интересен взгляд на воинский коллектив и воинское братство («Штопор» и «На два фронта»).
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алексей Юрьевич Герман»: