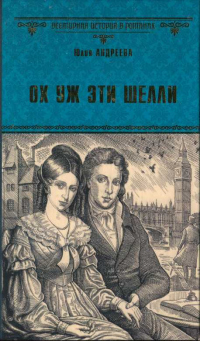Шрифт:
Закладка:
Сборник миниатюр и повестей, объединённых общей темой иллюзорности мира: в них переплетаются вымысел и действительность, мистификация и достоверные факты. Собранные воедино тексты обнаруживают «искомые связи между Вавилоном месопотамским, казачьей столицей Новочеркасском, катулловским Римом и донскими хуторами, на околицах которых могут обнаружиться странные фигуры». Смыслом обладает молчание. Именно оно составляет фундамент югурундской речи. Например, югурундские слова или, говоря более строго, похожие на слова звуковые комплексы явин и калахур сами по себе ничего не значат. Но если произнести — явин, а затем, промолчав ровно одиннадцать секунд, произнести — калахур, то возникает прилагательное «бессмертный». …он не то чтобы отрицает время, а говорит, что не существует прошлого и будущего, а есть только одно неделимое и вечное Настоящее или, как он излагает, Настоящее настоящего, Настоящее прошлого и Настоящее будущего. Между ними, по его разумению, не существует решительно никакой разницы, в силу чего не только все вещи, но и люди, события, действия обладают божественным свойством неисчезновенности. Всё есть как есть, и всё есть всегда: никогда не начинало быть, пребывало вечно и не прейдёт во веки веков.