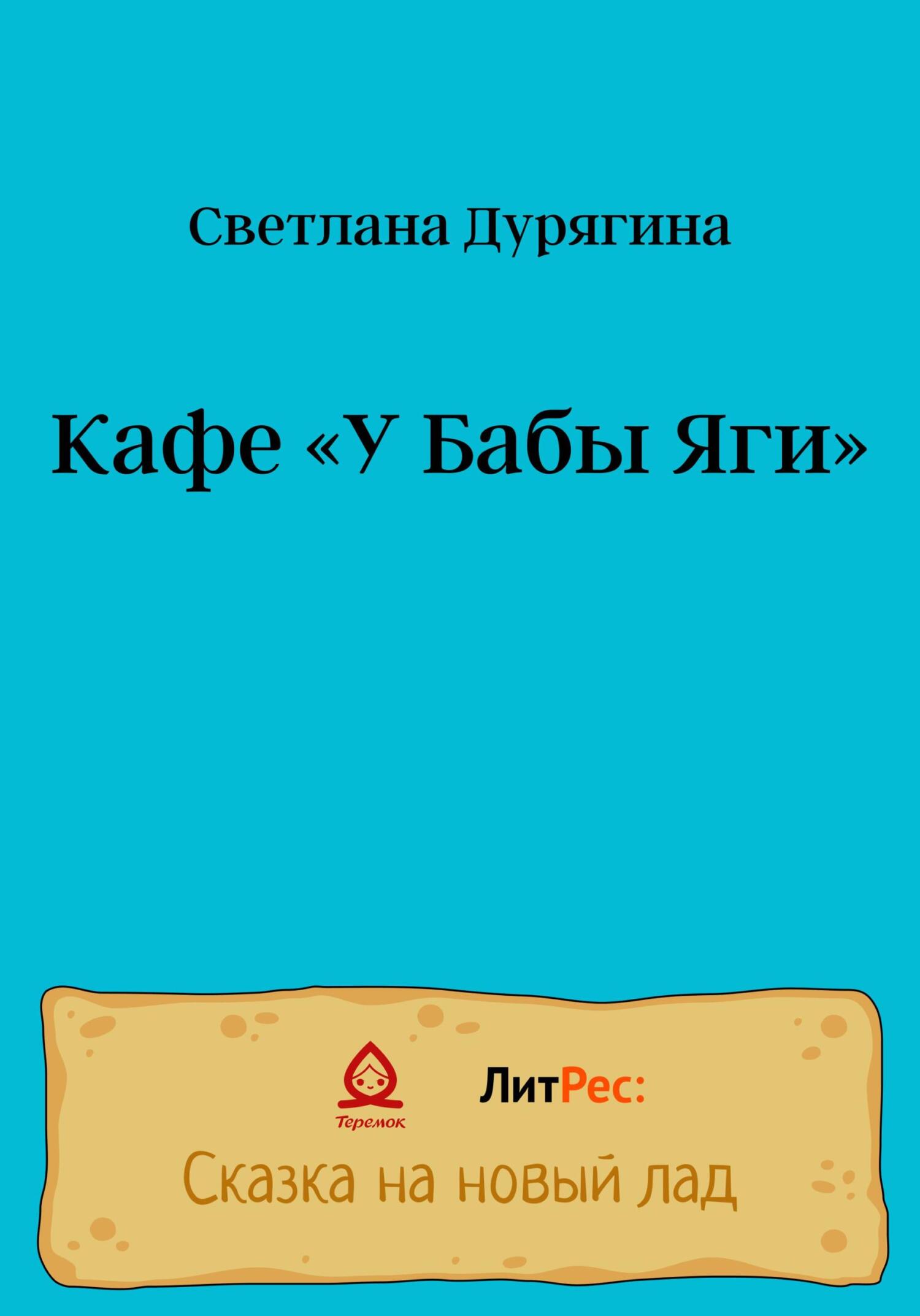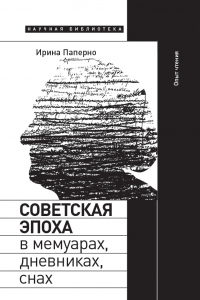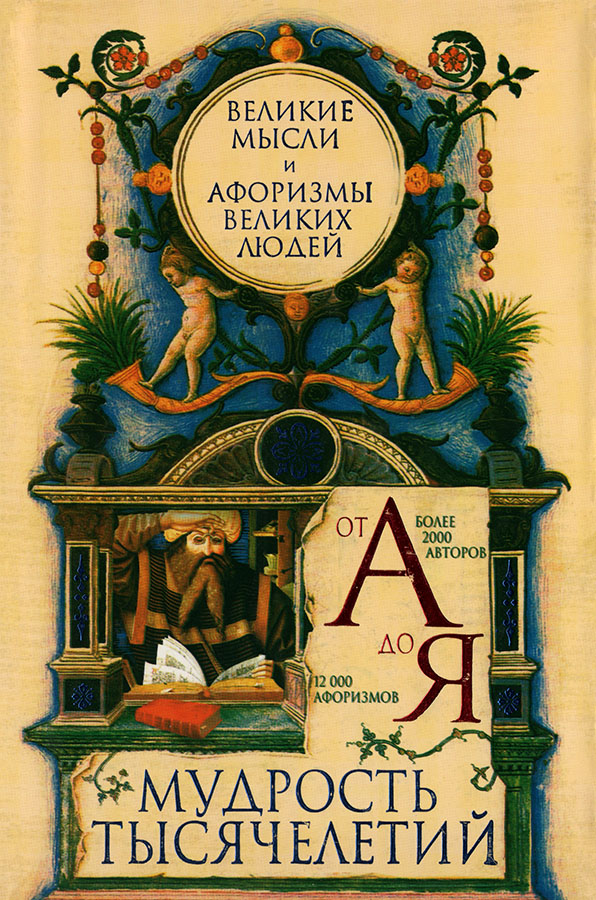Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В повести «Версия» С. Ласкин предлагает читателям свою концепцию интриги, происходящей вокруг Пушкина и Натальи Николаевны.В романе «Вечности заложник» рассказывается о трагической судьбе ленинградского художника Василия Калужнина, друга Есенина, Ахматовой, Клюева...Оба эти произведения, действие которых происходит в разных столетиях, объединяет противостояние художника самодовольной агрессивной косности.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Семен Борисович Ласкин»: