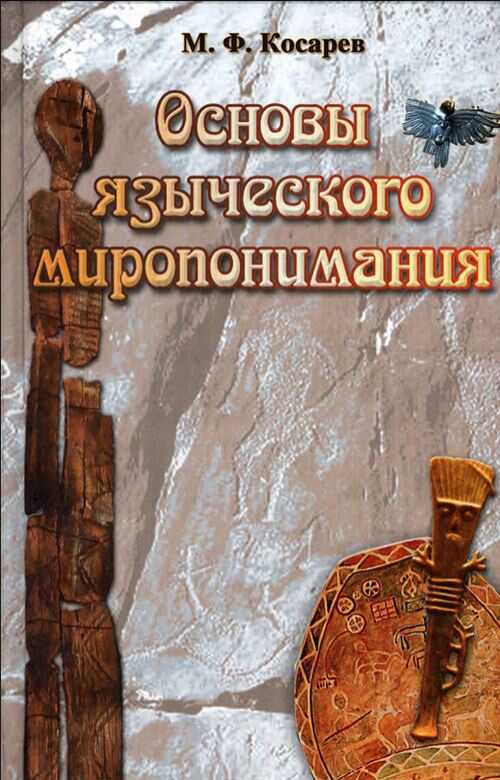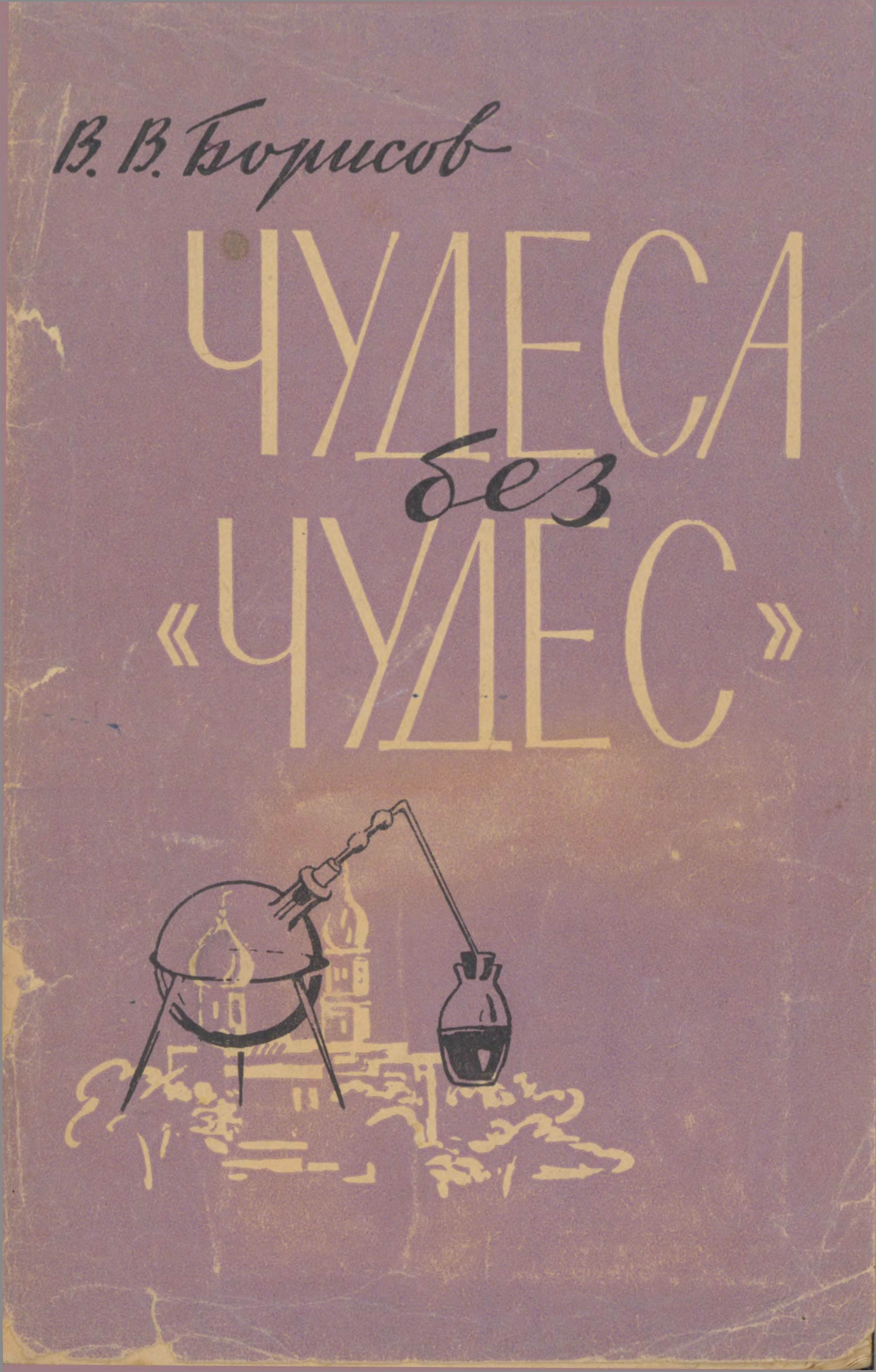Шрифт:
Закладка:
Автор книги доктор исторических наук М. Ф. Косарев реконструирует и описывает древнее языческое видение и понимание мира, основываясь преимущественно на данных археологических и этнографических исследований быта и верований ряда сибирских народов. Рассмотрены представления о жизни, смерти, душе, структуре мироздания. Значительное внимание уделено особенностям древних сибирских культов, обрядово-ритуальным практикам, психологическим аспектам шаманства, проблемам генезиса шаманизма, функциям и роли шамана в жизни общества вплоть до этнографической современности. Использование большого объема аналогичных сведений из истории и этнографии восточных славян и других народов, а также материалов современных исследований в сфере аналитической и трансперсональной психологии и парапсихологии позволяет автору с высокой степенью наглядности восстановить и показать особенности традиционного миропонимания. Издание адресовано широкому кругу читателей — как специалистам-историкам, этнографам, этнологам, религиоведам, так и всем, кто интересуется «природными верованиями».