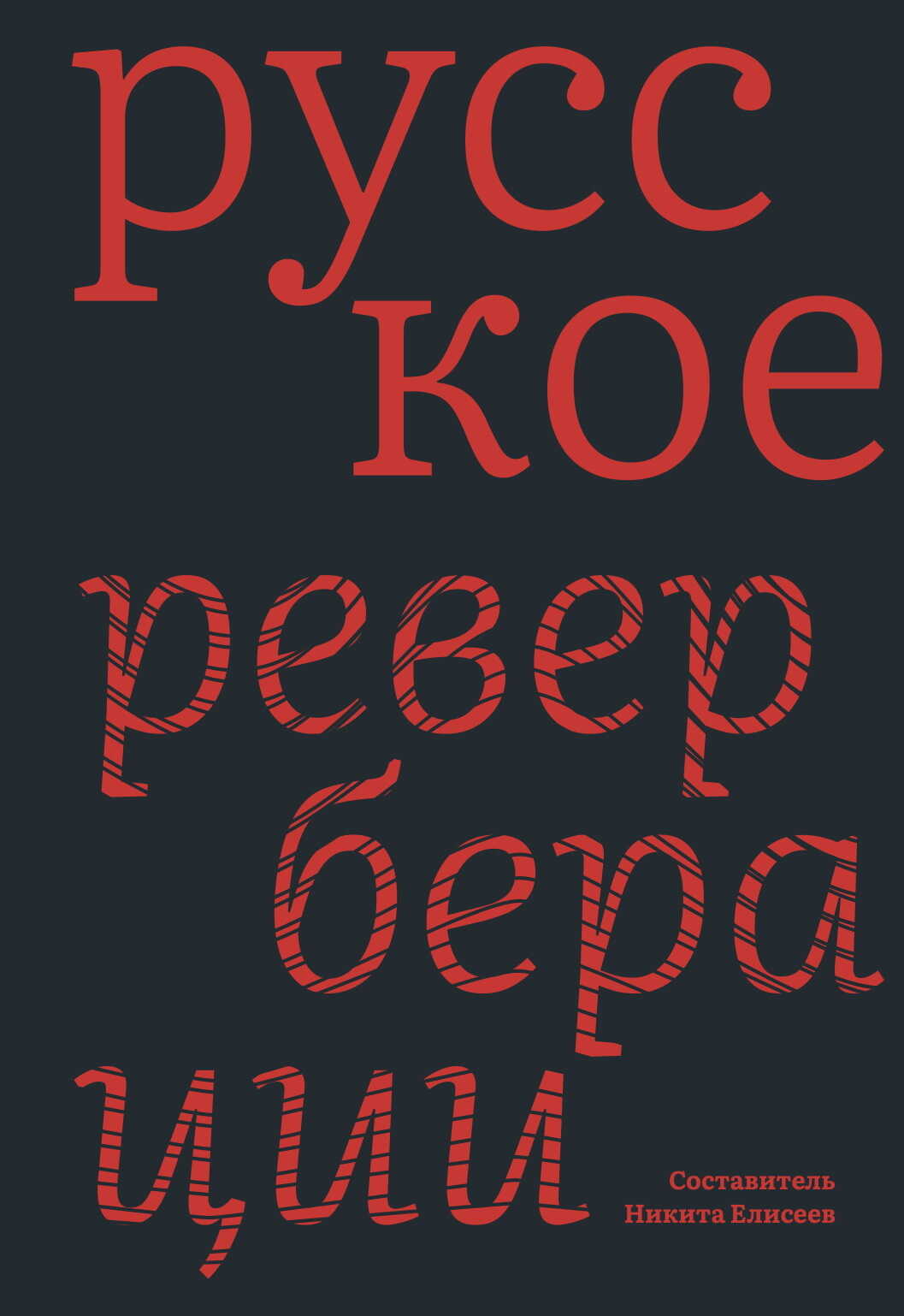Шрифт:
Закладка:
– Сперва вы поедете, – с удовольствием разъяснял Зотов, – до станции Грязи. Вот жалко, карты нет. Представляете, где это?
– Н-не очень… Название слышал, кажется.
– Да известная станция! Если в Грязях вы будете днем, пойдите с этим вашим листком – вот, я делаю на нем отметку, что вы были у меня, – пойдите к военному коменданту, он напишет распоряжение в продпункт, и вы получите на пару дней паек.
– Очень вам благодарен.
– А если ночью – сидите, не вылезайте, держитесь за этот эшелон! Вот бы влипли вы в своих одеялах, если б не проснулись, – завезли б вас!.. Из Грязей ваш поезд пойдет на Поворино, но и в Поворино – разве только на продпункт, не отстаньте! – он довезет вас еще до Арчеды. В Арчеду-то и назначен ваш эшелон двести сорок пять четыреста тринадцать.
И Зотов вручил Тверитинову его догонный лист. Пряча лист в карман гимнастерки, все тот же, на котором застегивался клапан, Тверитинов спросил:
– Арчеда? Вот уж никогда не слышал. Где это?
– Это считайте уже под Сталинградом.
– Под Сталинградом, – кивнул Тверитинов. Но лоб его наморщился. Он сделал рассеянное усилие и переспросил: – Позвольте… Сталинград… А как он назывался раньше?
И – все оборвалось и охолонуло в Зотове! Возможно ли? Советский человек – не знает Сталинграда? Да не может этого быть никак! Никак! Никак! Это не помещается в голове!
Однако он сумел себя сдержать. Подобрался. Поправил очки. Сказал почти спокойно:
– Раньше он назывался Царицын.
(Значит, не окруженец. Подослан! Агент! Наверно, белоэмигрант, потому и манеры такие.)
– Ах, верно, верно, Царицын. Оборона Царицына.
(Да не офицер ли он переодетый? То-то карту спрашивал… И слишком уж переиграл с одежонкой.)
Враждебное слово это – «офицер», давно исчезнувшее из русской речи, даже мысленно произнесенное, укололо Зотова, как штык.
(Ах, спростовал! Ах, спростовал! Так, спокойствие. Так, бдительность. Что теперь делать? Что теперь делать?)
Зотов нажал один долгий зуммер в полевом телефоне.
И держал трубку у уха, надеясь, что сейчас капитан снимет свою.
Но капитан не снимал.
– Василь Васильич, мне все-таки совестно, что я вас обобрал на табак.
– Ничего, пожалуйста, – отклонил Зотов.
(Тюха-матюха! Раскис. Расстилался перед врагом, не знал, чем угодить.)
– Но уж тогда разрешите – я еще разик у вас надымлю. Или мне выйти?
(Выйти ему?! Прозрачно! Понял, что промах дал, теперь хочет смыться.)
– Нет-нет, курите здесь. Я люблю табачный дым.
(Что же придумать? Как это сделать?..)
Он нажал зуммер трижды. Трубку сняли:
– Караульное слушает.
– Это Зотов говорит.
– Слушаю, товарищ лейтенант.
– Где там Гуськов?
– Он… вышел, товарищ лейтенант.
– Куда это – вышел? Что значит – вышел? Вот обеспечь, чтобы через пять минут он был на месте.
(К бабе пошел, негодяй!)
– Есть обеспечить.
(Что же придумать?)
Зотов взял листок бумаги и, заслоняя от Тверитинова, написал на нем крупно: «Валя! Войдите к нам и скажите, что 794-й опаздывает на час».
Он сложил бумажку, подошел к двери и отсюда сказал, протянув руку:
– Товарищ Подшебякина! Вот возьмите. Это насчет того транспорта.
– Какого, Василь Васильич?
– Тут номера написаны.
Подшебякина удивилась, встала, взяла бумажку. Зотов, не дожидаясь, вернулся.
Тверитинов уже одевался.
– Мы поезда не пропустим? – доброжелательно улыбался он.
– Нет, нас предупредят.
Зотов прошелся по комнате, не глядя на Тверитинова. Осадил сборки гимнастерки под ремнем на спину, пистолет перевел со спины на правый бок. Поправил на голове зеленую фуражку. Абсолютно нечего было делать и не о чем говорить.
А лгать Зотов – не умел.
Хоть бы говорил что-нибудь Тверитинов, но он молчал скромно.
За окном иногда журчала струйка из трубы, отметаемая и разбрасываемая ветром.
Лейтенант остановился около стола и, держась за угол его, смотрел на свои пальцы.
(Чтобы не дать заметить перемены, надо было смотреть по-прежнему на Тверитинова, но он не мог себя заставить.)
– Итак, через несколько дней – праздник! – сказал он. И насторожился.
(Ну, спроси, спроси: какой праздник? Тогда уж последнего сомнения не будет.)
Но гость отозвался:
– Да-а…
Лейтенант взбросил на него взгляд. Тот продолжительно кивал, куря.
– Интересно, будет парад на Красной площади?
(Какой уж там парад! Он и не думал об этом, а просто так, чтобы время занять.)
В дверь постучали.
– Разрешите, Василий Васильевич? – Валя просунула голову. Тверитинов увидел ее и потянулся за вещмешком. – Семьсот девяносто четвертый задержали на перегоне. Придет на час позже.
– Да-а-а! Вот какая досада. – (Его самого резала противная фальшь своего голоса.) – Хорошо, товарищ Подшебякина.
Валя скрылась.
За окном близко, на первом пути, послышалось сдержанное дыхание паровоза, замедляющийся к остановке стук состава; передалось подрагивание земли.
Пришел!
– Что же делать? – размышлял вслух Зотов. – Мне ведь надо идти на продпункт.
– Так я выйду, я – где угодно, пожалуйста, – охотливо сказал Тверитинов, улыбаясь и вставая уже с вещмешком в руках.
Зотов снял с гвоздя шинель.
– А зачем вам мерзнуть где попало? В станционный залик не вступите, там на полу лежат сплошь. Вы не хотите пройти со мной на продпункт?..
Это звучало как-то неубедительно, и он добавил, чувствуя, что краснеет:
– Я… может быть, сумею вам… там… устроить что-нибудь поесть.
Если б еще Тверитинов не обрадовался! Но он просиял:
– Это уж был бы с вашей стороны верх добросердечия. Я не смею вас просить.
Зотов отвернулся, осмотрел стол, тронул дверцу сейфа, потушил свет:
– Ну, пойдемте.
Запирая дверь, сказал Вале:
– Если вызовут с телеграфа, я скоро вернусь.
Тверитинов выходил перед ним в своем дурацком чапане и расслабленных, сбивающихся обмотках.
Через холодный темный коридорчик с синей лампочкой они вышли на перрон.
В черноте ночи под неразличимым небом косо неслись влажные, тяжелые, не белые вовсе хлопья дряпни – не дождя и не снега.
Прямо на первом пути стоял поезд. 794-й. Он весь был черен, но немного чернее неба – и так угадывались его вагоны и крыши. Слева, куда протянулся паровоз, огнедышаще светился зольник, сыпалась жаркая светящаяся зола на полотно и относилась в сторону быстро. Еще дальше и выше – ни на чем висел одинокий круглый зеленый огонь семафора. Направо, к хвосту поезда, где-то вспрыскивали струйки огненных искр над вагонами. Туда, к этим искоркам жизни, по перрону торопились темные фигуры, больше бабьи. Сливалось тяжелое дыхание многих от чего-то невидимого навьюченного, громоздкого. Тянули за собой