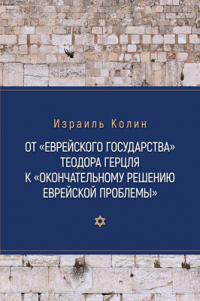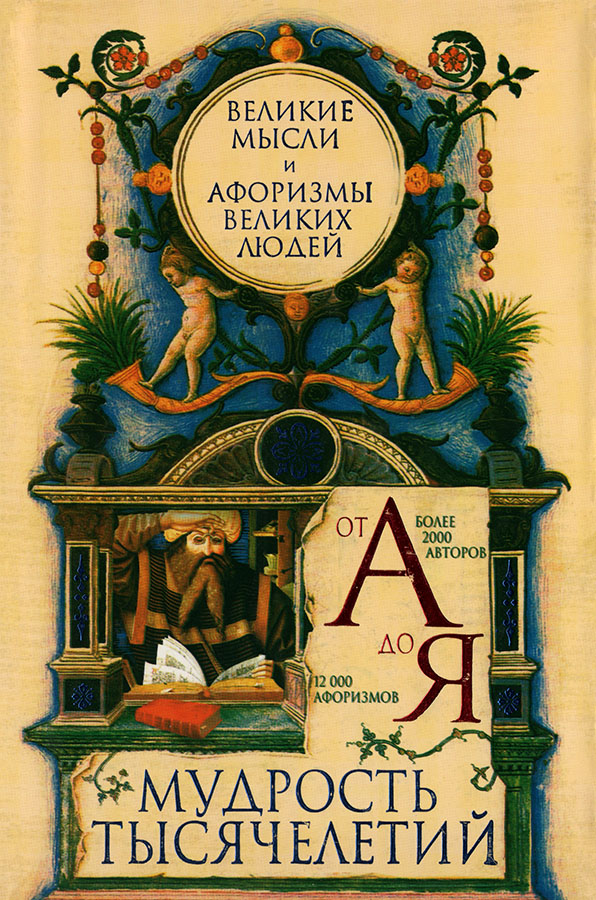Шрифт:
Закладка:
Новая книга Р. Кацмана продолжает и дополняет предыдущую («Неуловимая реальность. Сто лет русско-израильской литературы 1920-2020»), увидевшую свет в 2020 году в серии «Современная западная русистика». На обширном материале автор рассматривает основные мифологемы современной русскоязычной литературы Израиля, а также предлагает новый взгляд на мифотворчество. В книге представлены как знаменитые, так и менее известные, но яркие писатели: Э. Баух, Н. Вайман, А. Гольдштейн, Л. Горалик, Н. Зингер, Д. Клугер, Л. Левинзон, А. Лихтик-ман, Е. Макарова, Е. Михайличенко и Ю. Несис, В. Райхер, Д. Рубина, Д. Соболев, А. Тарн, Я. Цигельман, Я. Шехтер, М. Юдсон. Это книга о том, как русско-израильская проза отвечает на главные вопросы времени, создавая мифы о чудесной встрече и повседневной праведности, о катастрофе и спасении, о жертве и основании, о городах и империях.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.