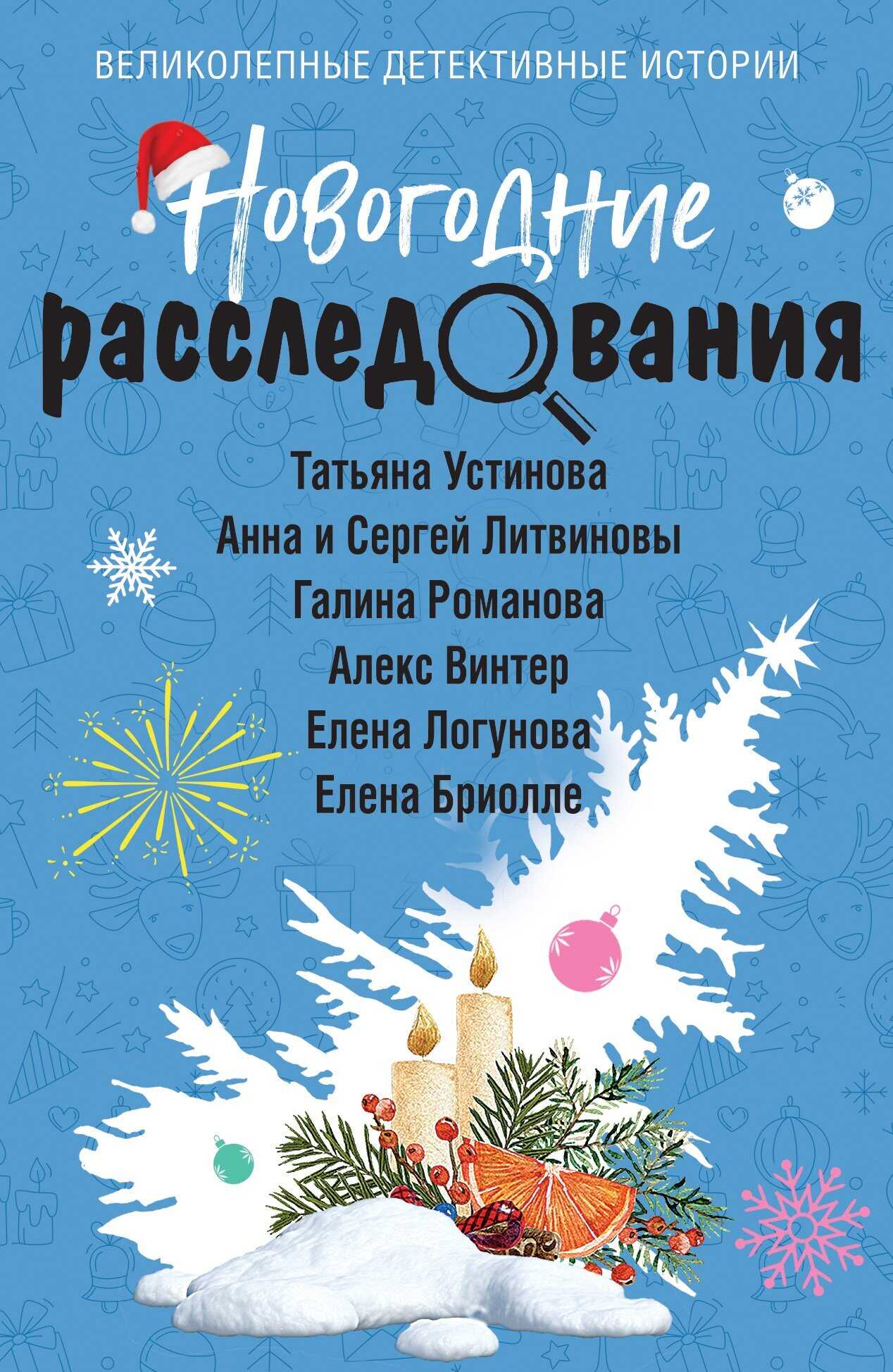Шрифт:
Закладка:
– Вы что, домовой?
Кошкин усмехнулся и снова полез в коробочку.
– Я не дОмовой. Я дЫмовой.
– Это как? – не поняла Юкля.
– Это где горит, там я.
– В смысле? Вы что, пироман? Поджигатель? Или просто пироман-поджигатель-маньяк?
– Дура, – с удовольствием оглушительно чихнул Кошкин, и Юкля наконец сообразила, что в коробочке у него табак. Нюхательный. Как у капитанов Жюля Верна. – А ты чем занята?
– Я к экзаменам готовлюсь, но тему переводить не надо! Вы что такое вообще? Фольклорный элемент же, да?
Кошкин вздохнул. Ему Юклина непонятливость явно не импонировала. Он поскреб ногтями чудовищно грязную щеку, протянул руку, взял лежавший сверху пирамиды учебник и принялся листать его, старательно слюнявя палец.
– Я наказан и оттого дымовой. Я живу в пожаре, тушу пожары, храню пожары, хожу по домам и проверяю людей, не нужна ли им моя помощь. Детки, там, не спят ли, не угорел ли кто, вдруг кто выбраться не может. Дым любой – моя история. Вот ваш дом шесть раз горел, так что я здесь-от гость-то раз в десять лет наверняка.
– Но со мной-то все в порядке, я жива и здорова, и горит не здесь, а где – я не знаю.
– Соседи ваши горят, в четырнадцатом доме две квартиры. Люди все сами вышли, а я вот зашел, забрал, – и он внезапно достал из-за пазухи шинели трехцветную кошку. Кошка висела в его руках, как тряпочка, и не подавала никаких признаков жизни. Совиные желтые глаза были широко распахнуты и блестели, но один из них наполовину затягивала розовая пленочка нижнего века. Длинный розовый язык безжизненно свисал между белых клыков.
– Но кошка же умерла. Она же мертвая! – взвизгнула Юкля и почувствовала, как мелкие холодные мурашки побежали по лодыжкам вверх и обосновались в районе пупка.
– Да не мертвая она, спит, я ее усыпил. Разбужу потом и хозяевам подкину. Вон ищут уже, орут.
На улице раздавался плачущий женский голос: «Муся! Муся! Борис, скажи пожарным, чтоб впустили меня! Муся!»
Кошкин засунул кошку обратно за пазуху шинели и сказал:
– Я к тебе-то случайно. Серафиму хотел проведать. С войны не виделись. Я ее сюда провожал-от из Ленинграда в чемодане, но вот занесло-от, и дай, думаю, проведаю. А тут ты. А Серафима-то где?
– Так умерла Серафима. Сто два года было ей, знаете ли.
Кошкин как-то жалостно охнул и стукнул себя ладонями по коленям. Одна ветхая штанина заскрежетала и поползла дырой.
– Ох ты ж, не успел-от!
– Ну извините, так вот как-то получается.
– А ты ей, значит, внучка?
– Правнучка. Поздняя.
Кошкин встал, подошел к Юкле, обошел ее вокруг, внимательно рассматривая, потом почесал лоб пятерней и удовлетворенно произнес:
– Не похожа.
Вся эта ситуация окончательно перестала выглядеть нормальной хоть сколько-то. «Наверное, я все же сплю, – подумала Юкля, – а раз я сплю, то пусть все идет, как идет».
– Спишь, спишь, – беззаботно помахал Кошкин полами своей шинели, взяв их обеими руками. Кошка не вывалилась наружу, наверное, решила Юкля, у него там бездонный карман или черная дыра. – На самом деле ты давно уже спишь.
– Хотите чаю? – неожиданно для себя самой спросила она Кошкина и, не дожидаясь ответа, зашлепала босыми ногами на кухню.
Дикая жара потихоньку шла на убыль, красные машины сматывали шланги во дворе, запах гари плотно стоял в воздухе, внизу суетились погорельцы, выволакивая из подъезда черные стулья, сожженные остовы матрасов, голуби суетливо бегали взад-вперед – не понимали, дурачье, что выносят вовсе не пшено.
Притихшие дети кучками передвигались от одного сгоревшего артефакта к другому, вокруг которых, горестно цокая языком, ходила немолодая уже Айнурка с метлой в одной руке, другой тяжело опираясь на раздвижной костыль с налокотником – артрит, старость, что там еще врач говорит. Запахло вечером и надвигающимися сумерками, тополя шелестели тонким серебром, как нити Эоловой арфы.
Юкля и Кошкин сидели на балконе, положив ноги на решетку, и пили чай. Юкля – из большой кружки с дырами, на которой вилась керамическая надпись: «Напейся и не облейся», Кошкин, отставив мизинец, шумно дул и прихлебывал из фарфоровой тонкостенной чашечки в виде цветка ириса с витой белоснежной ручкой – лучшая и любимая Серафимина чашка из китайского фарфора с клеймом Императорского фарфорового завода, единственная уцелевшая из бывшего богатства, о котором, впрочем, она никогда и не упоминала.
– Что значит, ты наказан, потому и дымовой? Сколько тебе лет вообще, Кошкин?
– Родился я-от при Александре-то Третьем. Батьку с мамкой не знал никогда, вырос при конюшне Преображенского полка, потыкался-от, помыкался, пошел служить в солдаты – всяко лучше, чем голодом ходить, там хоть кормили и обмундирование давали. А наказан-от я за то, что трус как есть. Трусость, она-то по нашему христианскому канону – грех страшный, хоть и не прописано-то такое нигде, ни в каком законе, ни в божеском, ни в человеческом-от. Струсил мелко, а вон оно как все вышло-то, видишь.
Кошкин замолчал, вздохнул, вертя в руках сушку.
– Что случилось?
– Война-от, первая. Но я не успел повоевать, потому как сам помер-то. Там, где мы стояли – часть наша, – литейный был округ, кузнецы, литейщики, склады. С казармой рядом-от все и произошло – загорелась кузня, солдаты бросили все и побежали спасать, тушить, кузнецов вытащили – лежать, дохають, а я самый молодой был, непонятливый – чаво хватать, куды бечь, как воду швырять, бегал взад-наперед, мешался только-то. Самый дюжий из кузнецов-от в себя пришел – полковой старшина, и робяты бочку выкатили и вылили на него, и как заревет: «Спасайте, тащите, ребятенок там!», и кинулся в самое-от пекло-то, ну тут на него все кинулись и повисли на ручищах, как псы на медведе. «Что стоишь, – кричит он мне, – беги, сын мой там!», а я и правда ближе всех к кузне-то был. И струсил я-то, как сукин распоследний сын, замешкался на минуточку-то, закрыл рукавом лицо, а оно все-то и рухнуло-от – кузня-от деревянна-то, балки вытлели и рухнули. Кузнец заревел, стряхнул всех, подбежал и как дал мне кулачищем-то своим пудовым в лоб в середину самую. Я там-то и помер сразу. Сын там у него был, понимаешь, батьке есть принес и сгинул. Маленький ещщо, пацаненок.
Юкля отвернулась и вытерла ладонью подступившие слезы, так жалко ей было всех – и Кошкина, как дурака, погибшего от юности, – какая трусость тут, один испуганный пацан другого не спас, – и пацаненка кузнецова, и самого кузнеца, потерявшего сына, и себя почему-то неожиданно стало очень жалко.
Двор утих, на небо выпали крупные белые звезды, немного подрагивающие в жарком воздухе, пахло уже как будто костром и цветущими по жаре водами залива, где-то