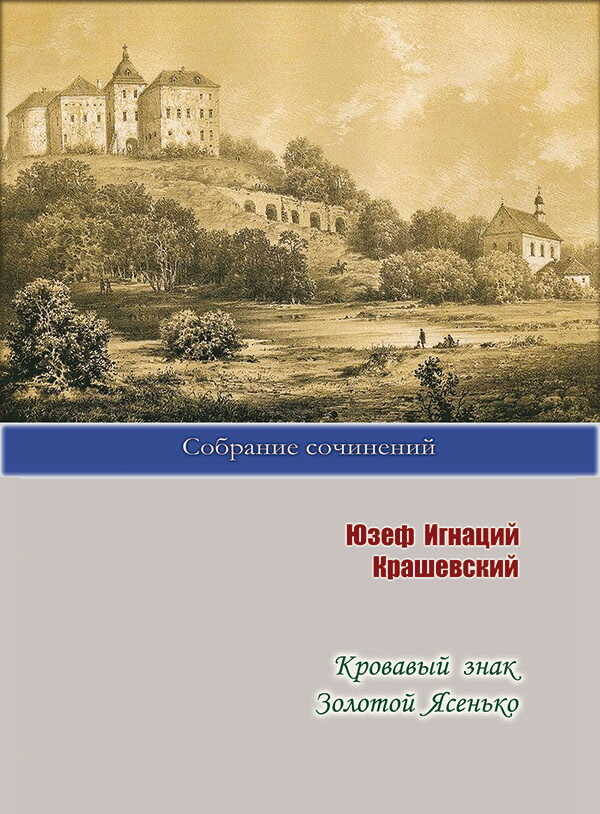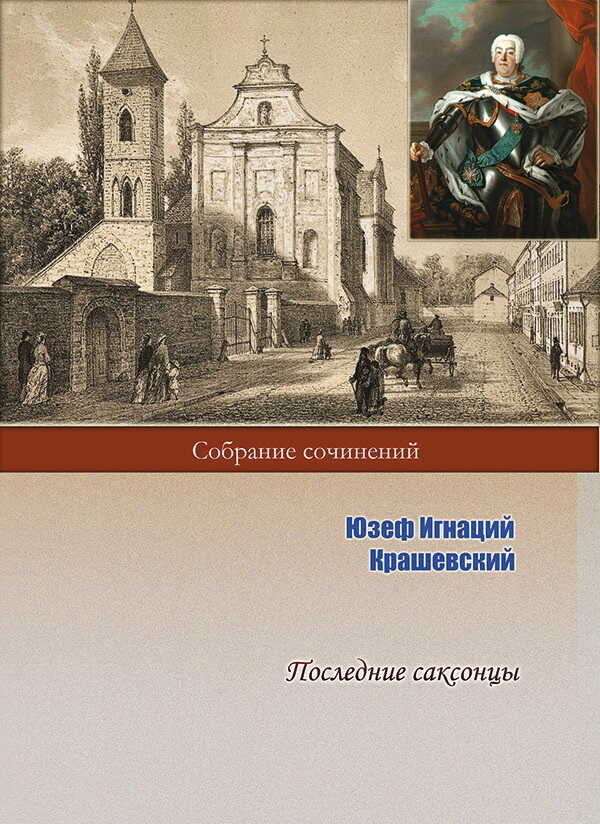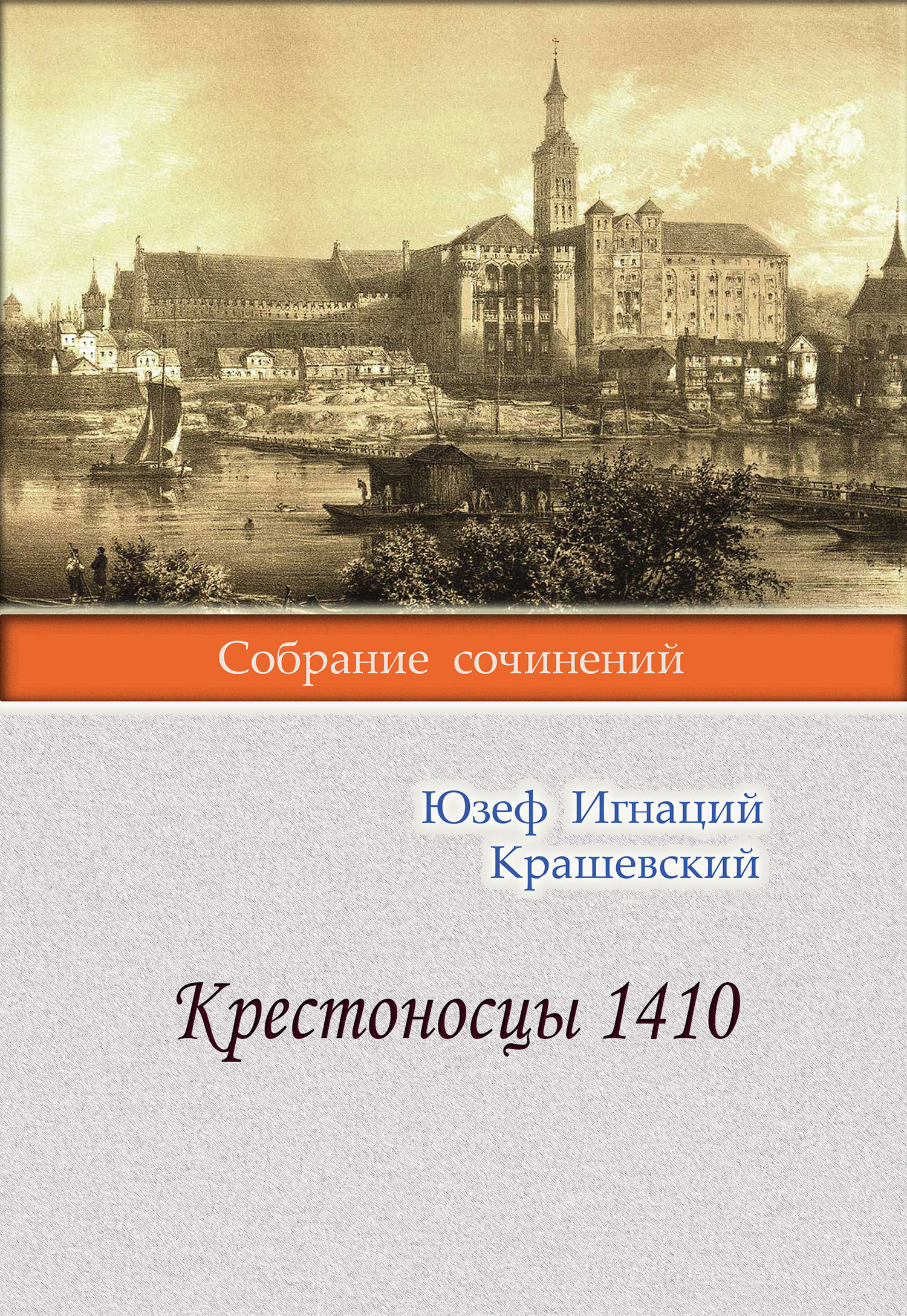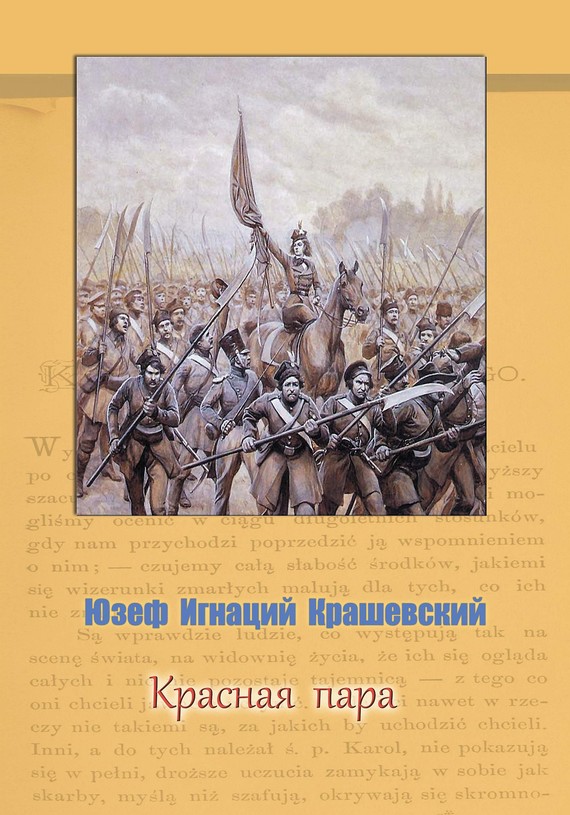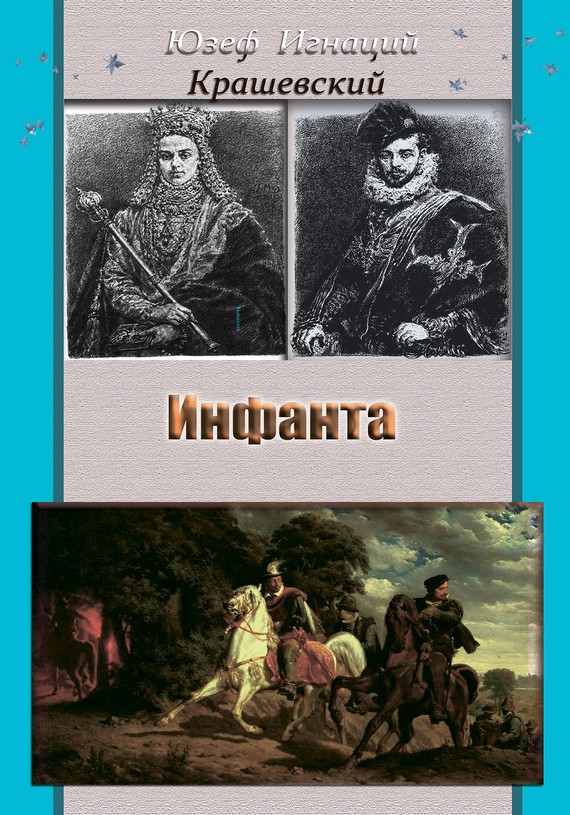Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман «Орбека» относится к реалистической части наследия Крашевского. К тому же автор выступает тут как психолог. В нём показана реальная жизнь Варшавы XIX века. Роман посвящен теме любви. Шляхтич Орбека одиноко живёт в своей деревне. Любит книги, музыку, занимается фермерством. Однажды он получает наследство. Его жизнь резко меняется, появляются завистники, он до безумия влюбляется в Миру и готов ради неё на всё…«Дитя Старого Города» открывает серию романов о польском восстании 1863 года. В нём отображено зарождение освободительного движения в 1860 году.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юзеф Игнаций Крашевский»: