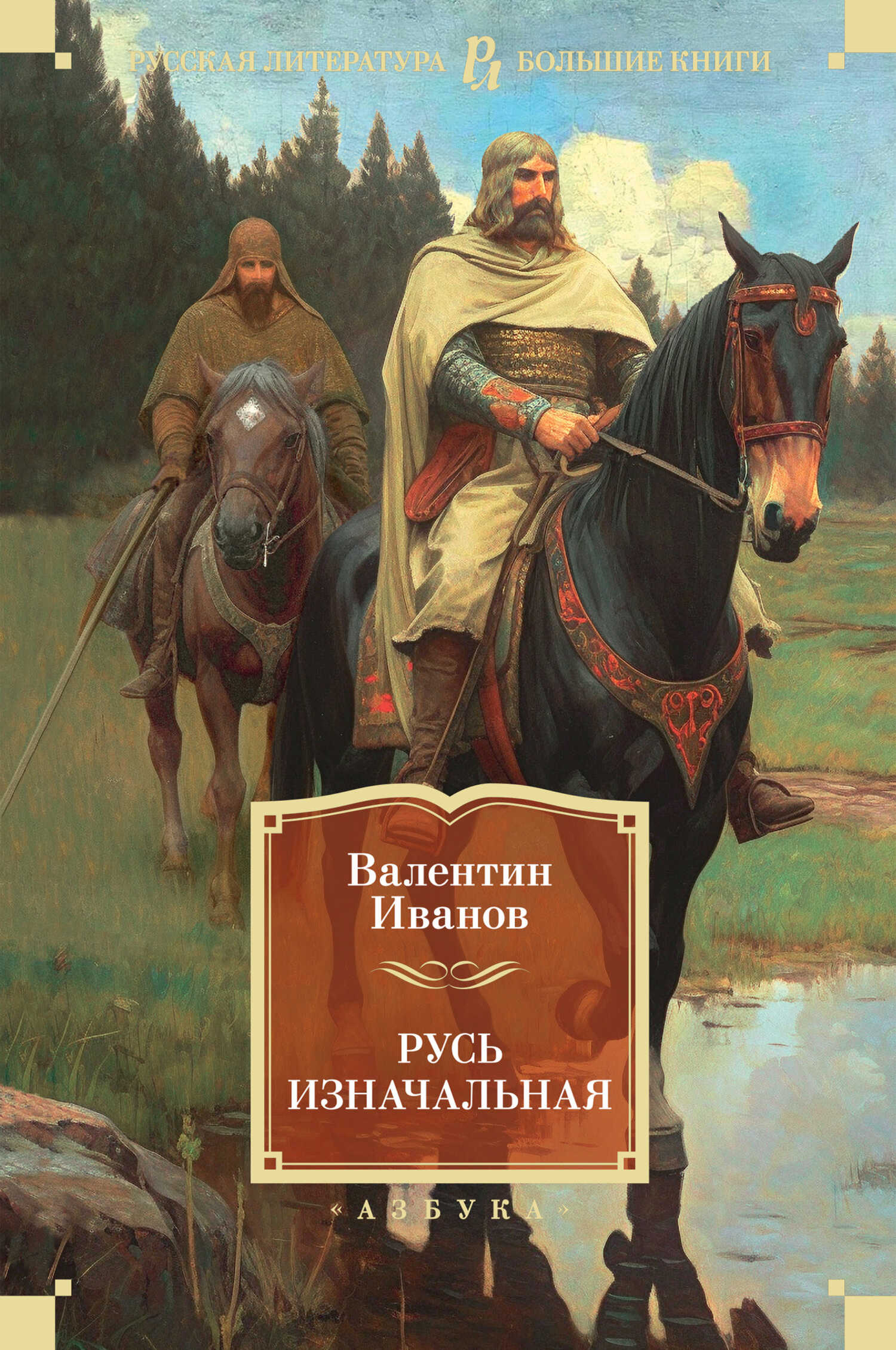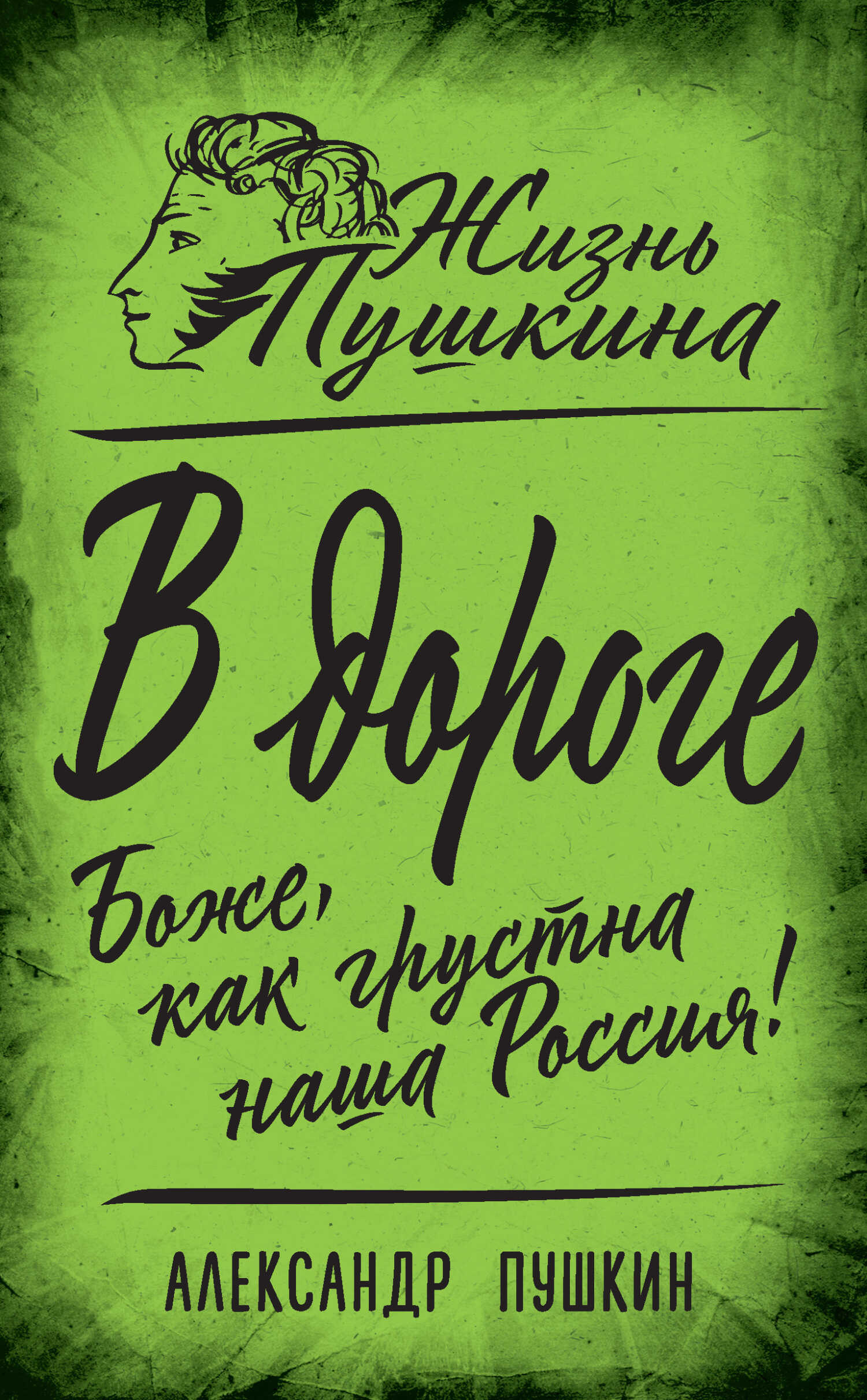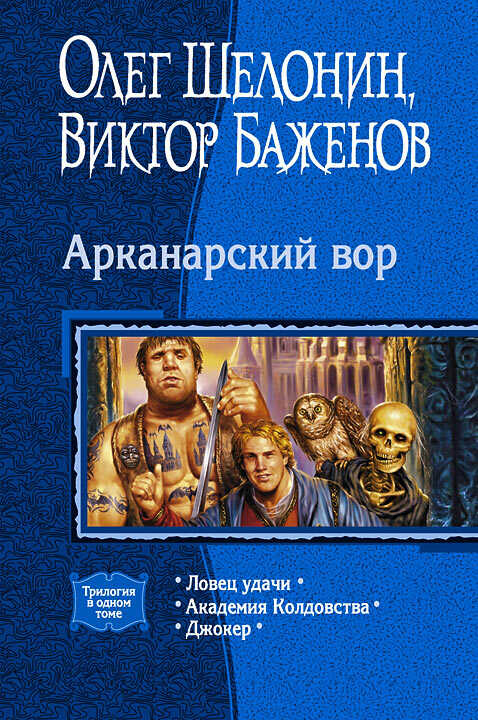Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Про восстание Степана Разина написано много книг талантливыми авторами, но все они имеют общий недостаток. При царизме Разин рисовался только как жестокий разбойник, при советской власти его образ искажался в сторону защитника всех «угнетённых царизмом».Нашему автору посчастливилось впервые создать образ атамана как жертвы Судьбы-Рока, мифического владыки Волги, волшебного Горыныча, который требует от Разина принесения ему человеческих жертв, чтобы атаману всегда сопутствовала удача в кромешных делах.В романе впервые в художественной литературе показан разгром войска Разина под Симбирском.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Николай Алексеевич Полотнянко»: