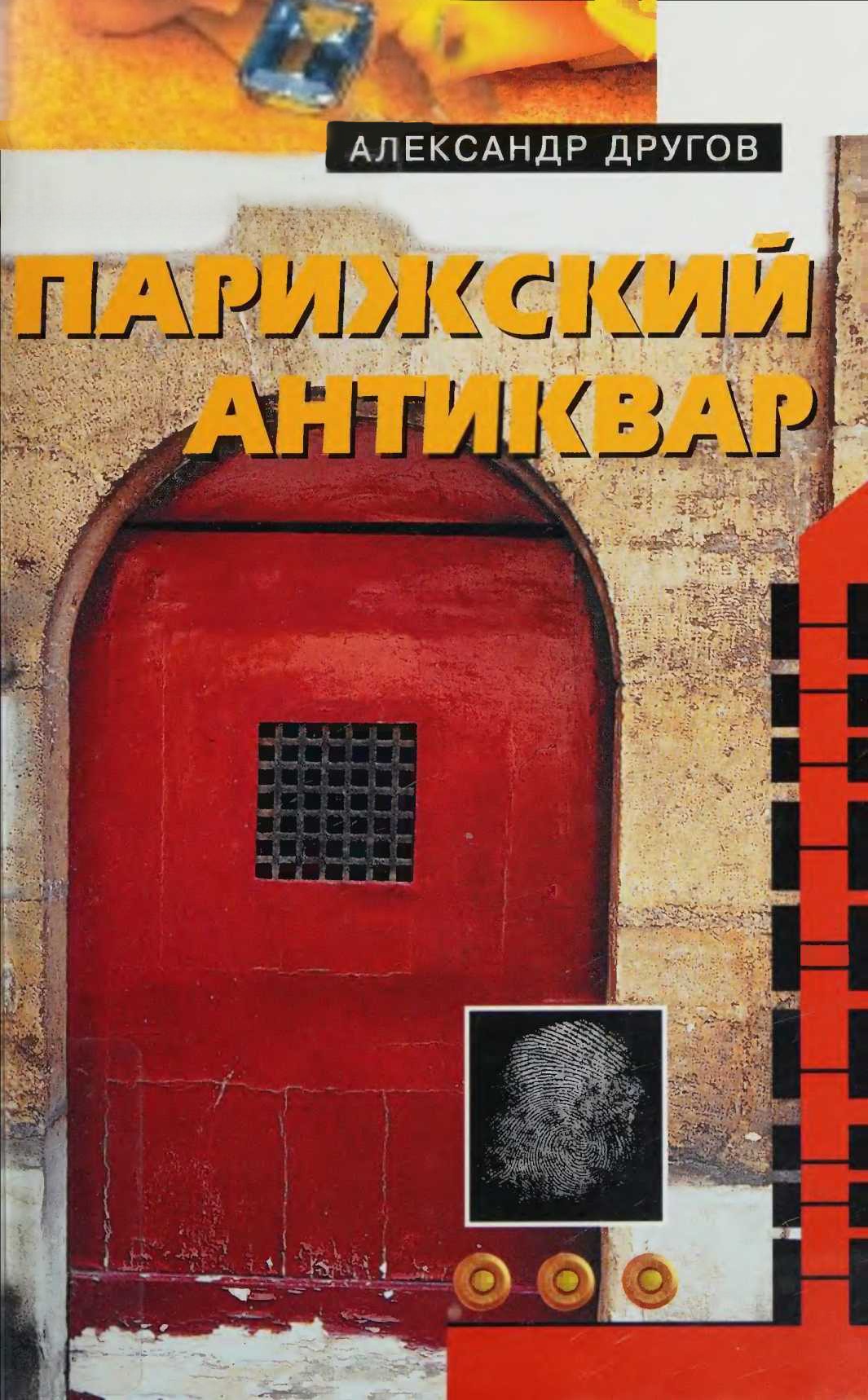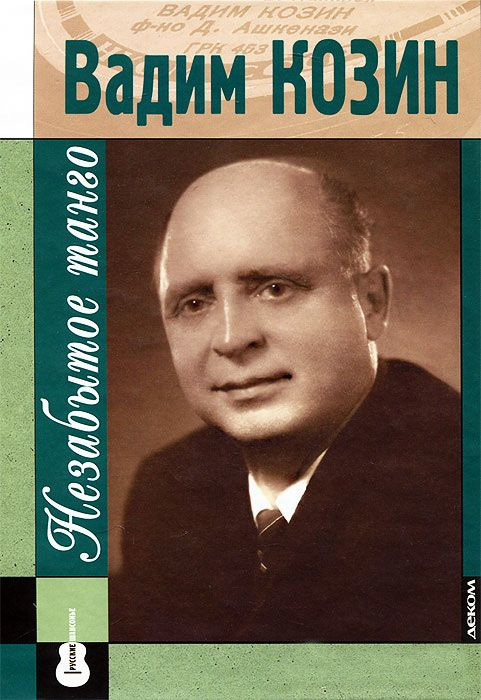Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Боги не любят счастливых людей», — утверждал Геродот. Кажется, что против любви, захлестнувшей Соню и Андре, ополчился пантеон богов всех религий. У каждого — вполне устроенная жизнь, которая протекает, может быть и без великого счастья, но и без великих потрясений. Однако всепобеждающее чувство заставляет отмести все условности, выявляя готовность идти до конца, чтобы быть рядом с тем, кто предназначен самим небом. И пусть завидуют боги!
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Марина Евгеньевна Мареева»: