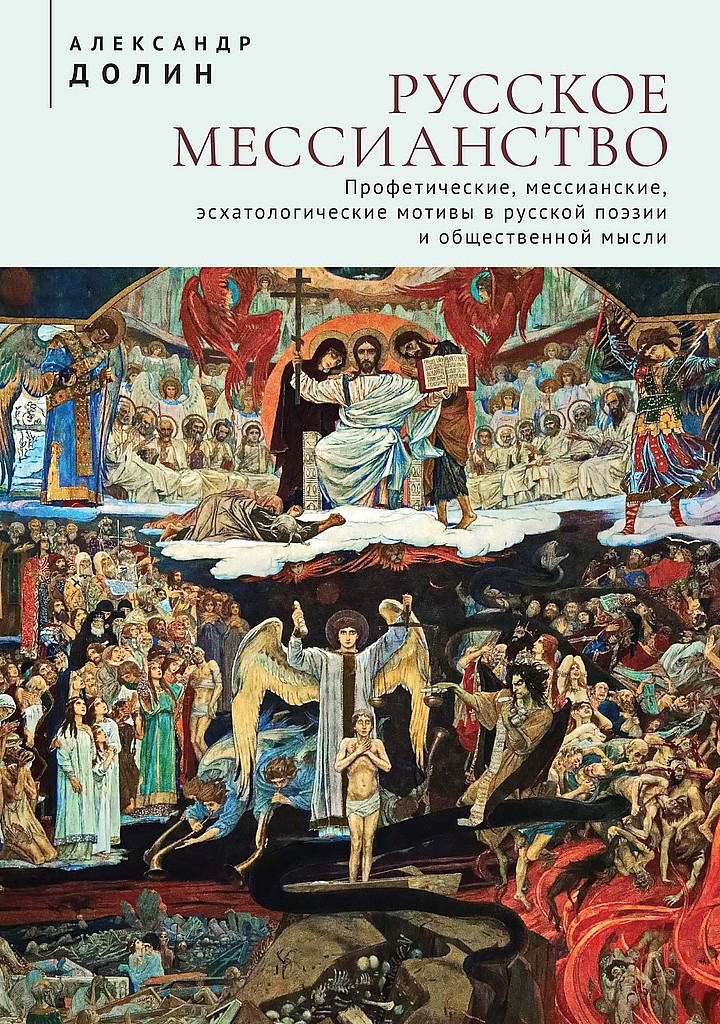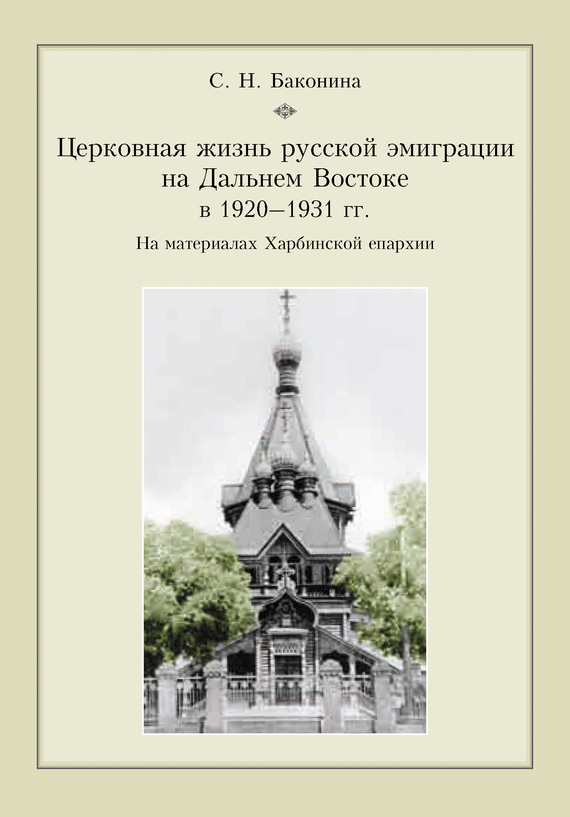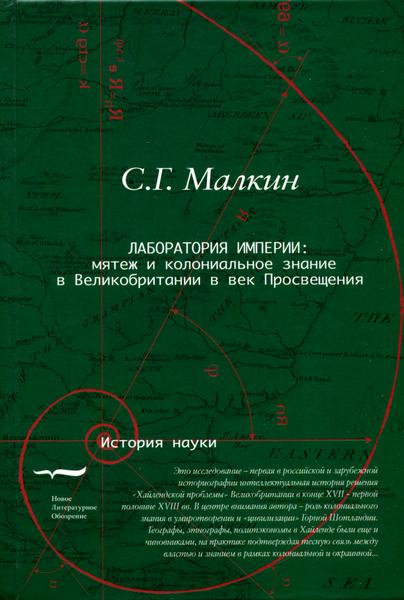Шрифт:
Закладка:
Вы интересуетесь военной историей, современными конфликтами и перспективами мирного урегулирования? Вы хотите разобраться в сложных терминах и определениях, которые используются в военном деле? Тогда эта книга для вас!
Война и мир в терминах и определениях. Военный словарь - это уникальное издание, которое содержит более 5000 терминов и определений, связанных с военной сферой. Здесь вы найдете не только сухие определения, но и интересные факты, примеры, исторические справки и актуальные комментарии. Книга охватывает широкий спектр тем: от военной безопасности, геополитики и дипломатии до вооружения, оборонной промышленности и боевых действий.
Книга написана простым и понятным языком, доступным для широкого круга читателей. Автор - Алексей Дмитриевич Рогозин - имеет большой опыт и авторитет в военной сфере. Он рекомендует свою книгу всем, кто интересуется военными вопросами, вне зависимости от уровня своей подготовки. Словарь будет одинаково полезен и интересен как профессиональным военным и дипломатам, так и гражданам, чей интерес к военному делу вырос в последние годы.
Война и мир в терминах и определениях. Военный словарь - это необходимый источник информации для всех, кто хочет быть в курсе событий и понимать происходящее в мире. Это книга для тех, кто любит читать о войне и мире.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com