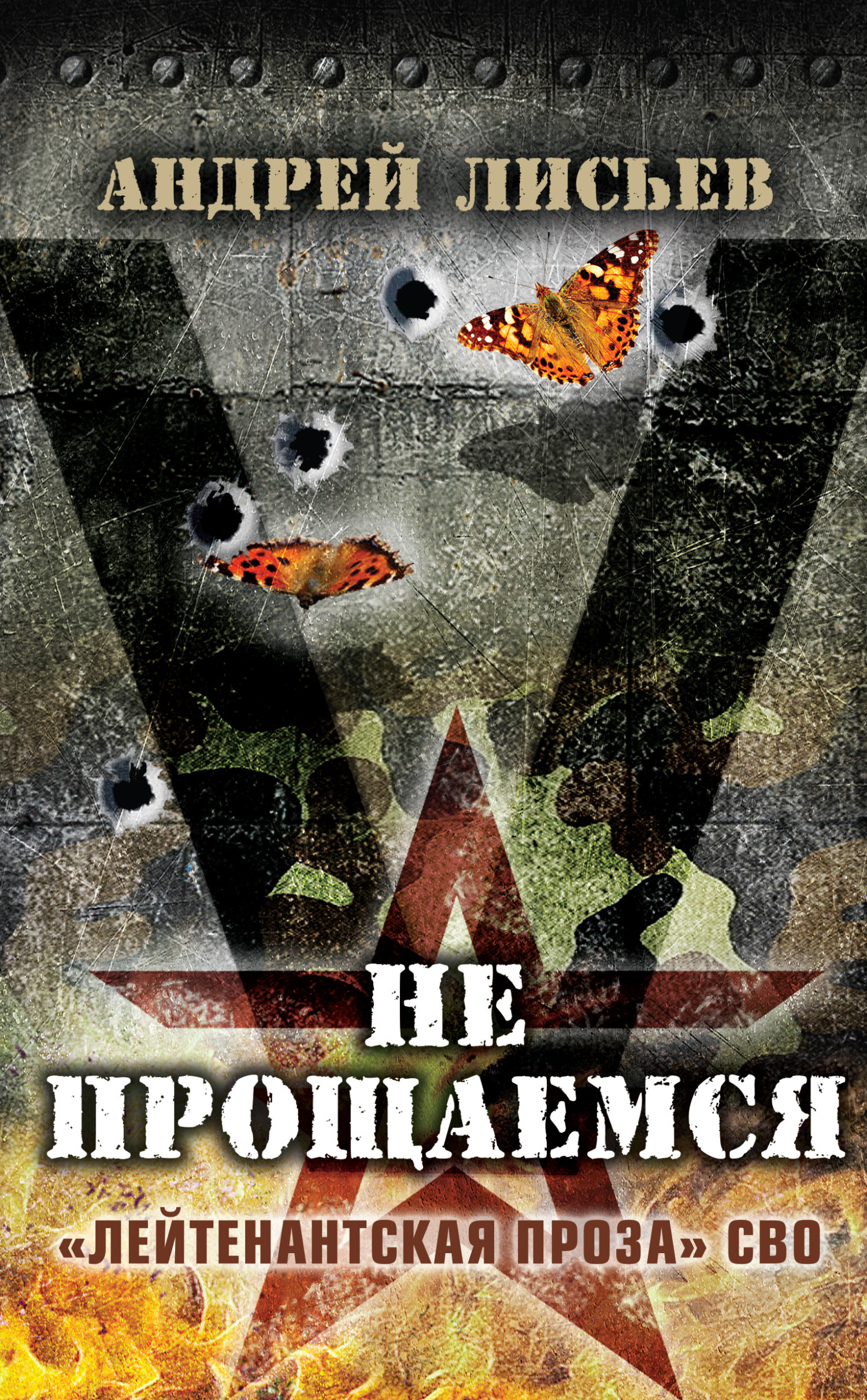Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
"Безвыходных ситуаций не бывает": сказал главный герой. И однажды встретился и разговорился на вокзале с незнакомцем, который считал иначе. В итоге герою пришлось пережить такое, чего он совершенно точно не ожидал. И невольно усомниться в своей убеждённости.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Елена Валериевна Горелик»: