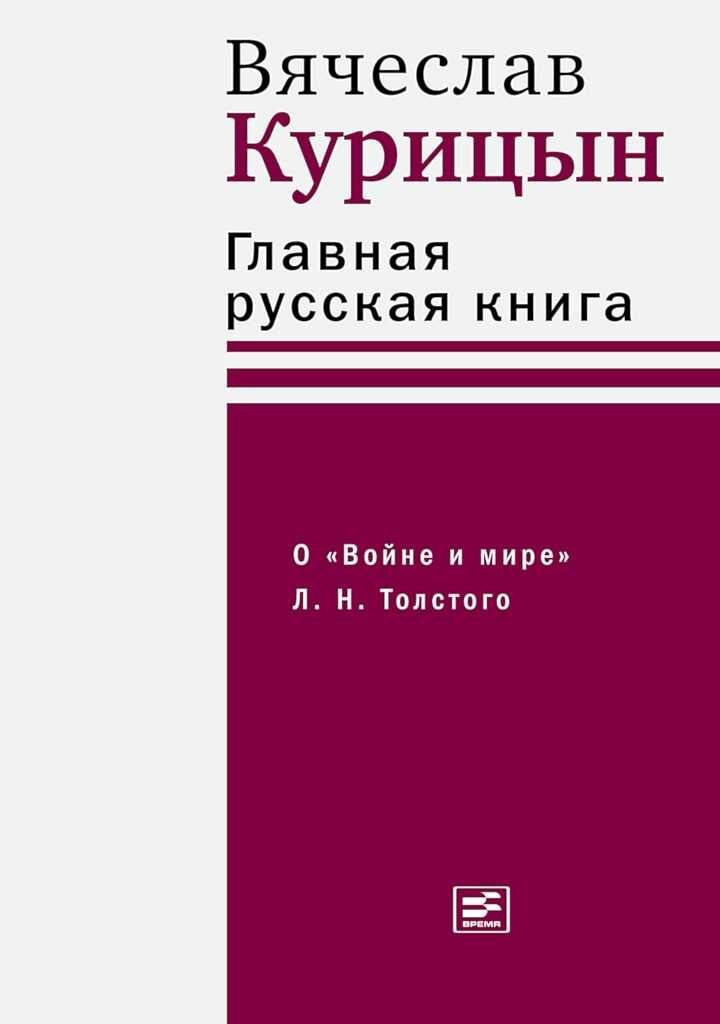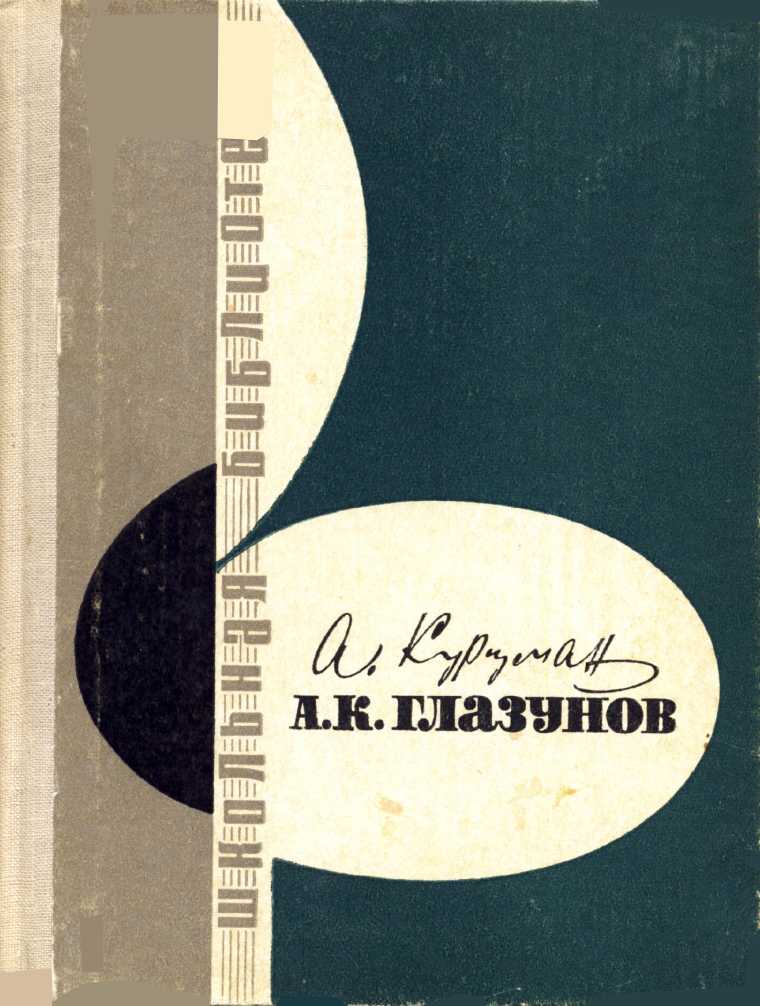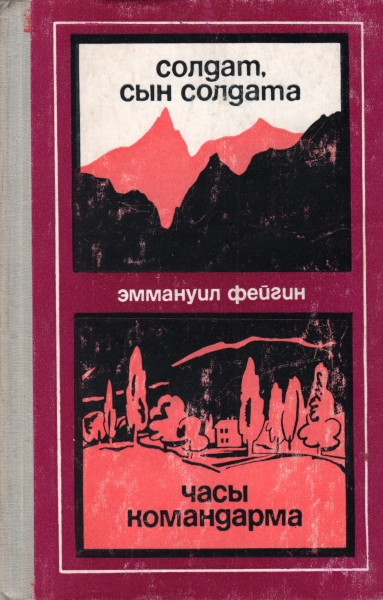Шрифт:
Закладка:
Ностальгический детектив с головой погружает в эпоху, когда милиционеров не боялись, «следствие вели знатоки», а преступники не оставались безнаказанными. Автор любовно воспроизводит приметы времени, буквально оживляя вид столичных улиц и наполняя роман мельчайшими деталями быта. 1975 год. Между московскими районами Сокол и Аэропорт происходит несколько зловещих убийств: жертвами оказываются никак не связанные между собой пожилые женщины. За дело берется капитан Покровский с Петровки, 38. Клубок тайн запутывается, в сферу внимания следствия попадают фарцовщики с Беговой, хозяйственные работники спорткомплекса ЦСКА, неожиданно всплывает след очень древней иконы, а в одном из моргов столицы обнаруживается тело без документов… Детектив, написанный с искрометной иронией, читается на одном дыхании. Чистый восторг для всех, кто хотел бы вспомнить времена своего детства и юности или побывать там, куда добралась «машина времени» Вячеслава Курицына.