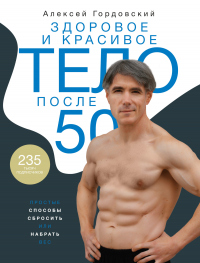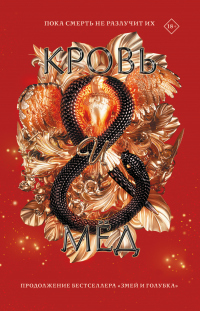Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Альтернативная Россия, Москва, наше время. Страной правит Триумвират: трое древних темных магов в образах людей. Хабанера, Мышастый и Чубакка Рыжий.Темные маги захватили власть в стране в начале ХХ века. Они питаются могучей силой Великого Кадавра, живого мертвеца, чей труп хранится на главной площади столицы в пирамиде. Но кто знает, где находится настоящий Кадавр?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алексей Винокуров»: