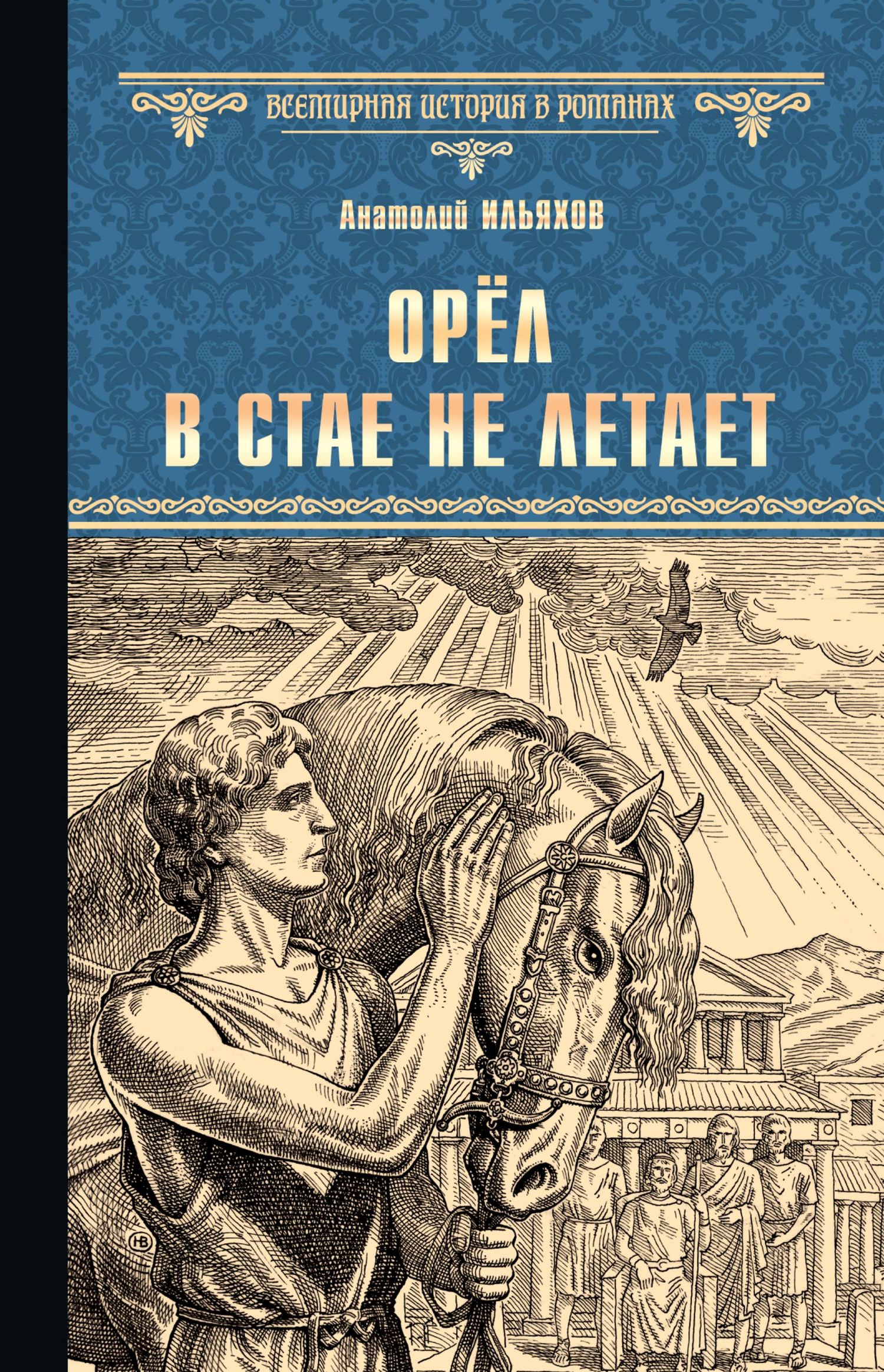Шрифт:
Закладка:
В 1572 году было гораздо сложнее освободить одну женщину от эшафота, чем сжечь сотню еретиков.
Когда я вернулся в дом ван дер Веерена, часы на колокольне церкви Святой Гертруды пробили три четверти седьмого. Я опоздал почти на час. Я заспешил, так как привык быть точным и не любил заставлять себя ждать, особенно даму. В данном случае мне было неприятно вдвойне, ибо могут подумать, что я, будучи хозяином положения, не желаю ни с кем считаться.
На лестнице меня встретил ван дер Веерен. Тем торжественным и немного высокомерным тоном, который так ему шёл, он просил меня распоряжаться им. Я поблагодарил его и спросил, здесь ли мадемуазель де Бреголль.
— Она уже ждёт вас.
— Пожалуйста, передайте ей моё сожаление в том, что я опоздал. Прошу извинить меня, но я был задержан по её же делу.
— Тем более она будет благодарна. Я сейчас передам ей это.
Через несколько минут я встретился лицом к лицу с мадемуазаль де Бреголль. Когда я вошёл в комнату, она была там одна и стояла, облокотившись на кресло. Мы встретились в той самой комнате, в которой я уже был, когда впервые посетил дом ван дер Веерена. Тогда она была залита солнцем и пропитана запахом духов. Теперь же был вечер, на двух столах стояли рядами свечи, что придавало этой длинной низкой комнате с тёмным потолком какую-то странную торжественность.
Женщина, которую я спас, также имела сосредоточенный и серьёзный вид, как будто подчёркивая, что жизнь, которую я ей даровал, есть вещь далеко не заурядная. Свет от свечей играл на её лице и за её спиной, в темноте. Одета она была во всё чёрное, со строгой простотой. Если бы на шее у неё не было белых кружев, то можно было бы подумать, что она в трауре. Волосы у неё были завязаны на затылке узлом, и в них не было никаких украшений.
Она немного выше и стройнее своей двоюродной сестры, но овал лица и мягкие очертания рта у обеих одни и те же. Только глаза у них разные: у неё они шире и не имеют того выражения гневного презрения, которое, по-видимому, обычно для донны Изабеллы. Они были ясны и кротки, когда она подняла их на меня.
Сначала она густо покраснела, но затем лицо её вновь побледнело. Она быстро сделала шаг вперёд и, прежде чем я успел предупредить, опустилась передо мной на одно колено и, схватив меня за руку, поцеловала её.
— Я ещё не успела поблагодарить вас, сеньор, — сказала она просто.
В этом её поступке было что-то очень серьёзное и вместе с тем мягкое. И опять меня охватило чувство какой-то торжественности, когда я взглянул на неё: этот ряд горящих свечей, тёмная комната и эта женщина в чёрном у моих ног.
Мне и раньше приходилось видеть такую обстановку — ночь, свечи и прекрасную женщину в чёрном у моих ног. Я видел, как не одна прекрасная женщина склонялась передо мной долу, так что её белые руки почти касались моих шпор. Я видел, как они извивались передо мной на земле, умоляя о пощаде — кто сына, кто мужа, кто отца. Я видел, как они уходили от меня, раздавленные моим отказом. Я ведь сказал уже, что я не какой-нибудь странствующий рыцарь, и меня приучили идти по жизни сурово и холодно, не поддаваясь сентиментальным увлечениям. Я до сих пор ещё не спас ни одной души таким образом, как сегодня, и никогда не получал благодарности таким способом. Это было что-то совсем новое для меня, и я был смущён такой необычной кротостью.
— Мадемуазель, — сказал я, — вы сконфузили меня. Я не заслуживаю этого. Я только исполнил долг правосудия.
— Нет, вы сделали больше: вы поверили мне. Кроме моего слова, других доказательств у вас не было.
— Нет, у меня они были: это ваше лицо и глаза. А кроме того — не повторяйте за мной этих слов — я не верю в ведьм.
— Помилуй меня Бог, если я сама когда-нибудь в это верила, — промолвила она, вздрогнув. — Поверить тому, будто моя старушка Варвара, которая нянчила меня ещё в детстве, это воплощение доброты, будто она созналась, что впускала ночью дьявола в мою комнату и учила меня, как отравлять детей и носиться на помеле! Но эти страшные пытки могут хоть кого заставить отрицать даже существование солнца на небе! Как я выдержала их и не созналась — этого я сама не знаю.
Она снова вздрогнула и закрыла лицо руками.
Я не сказал ей, что причиной этого является её красота, что инквизитор пытал её лишь слегка, не желая нарушить гармонии её сложения.
— Но ужаснее всего было всё последующее, — начала она снова, — когда я стояла на эшафоте и ждала конца. В детстве мне пришлось видеть, как сжигали какую-то женщину. Она была молода и сильна, как я, а костёр, как и сегодня утром, отсырел. Пламя поднялось кверху и спалило её одежду, а затем медленно стало пожирать свою добычу, пока не обуглилось всё тело. И всё-таки она была ещё жива. Иногда мне до сих пор кажется, что я слышу её стоны… Всё это я видела и слышала опять, когда стояла в ожидании казни. Я закрыла глаза. Когда я открыла их, то сквозь тонкий туман увидела, словно привидение, отряд всадников, стоявший на площади. Мои глаза встретились с вашими, а потом ещё раз. И тогда я знала, что я спасена. Разве это не странно, сеньор?
— Конечно, странно. Именно в этот момент я решил спасти вас.
В её глазах сверкнул какой-то огонёк, и она начала опять:
— Один великий учёный, почтенный старец с длинной седой бородой, говорил мне, что мысль имеет силу проходить через пространство, подобно свету, и передаваться другим. По его словам, она может передать мольбу, как не могут сделать никакие слова. Бедный, он давно уже сожжён, но я хотела бы знать, правда ли это? Он говорил, что сила мысли зависит от силы чувства, и ещё что-то, о чём я теперь уже не помню.
Она потупилась и смолкла.
Я понимал, на что она намекала. Я тоже слыхал о такой теории, которую инквизиция поторопилась объявить опальной. Второе условие, о котором она не хотела сказать, было: