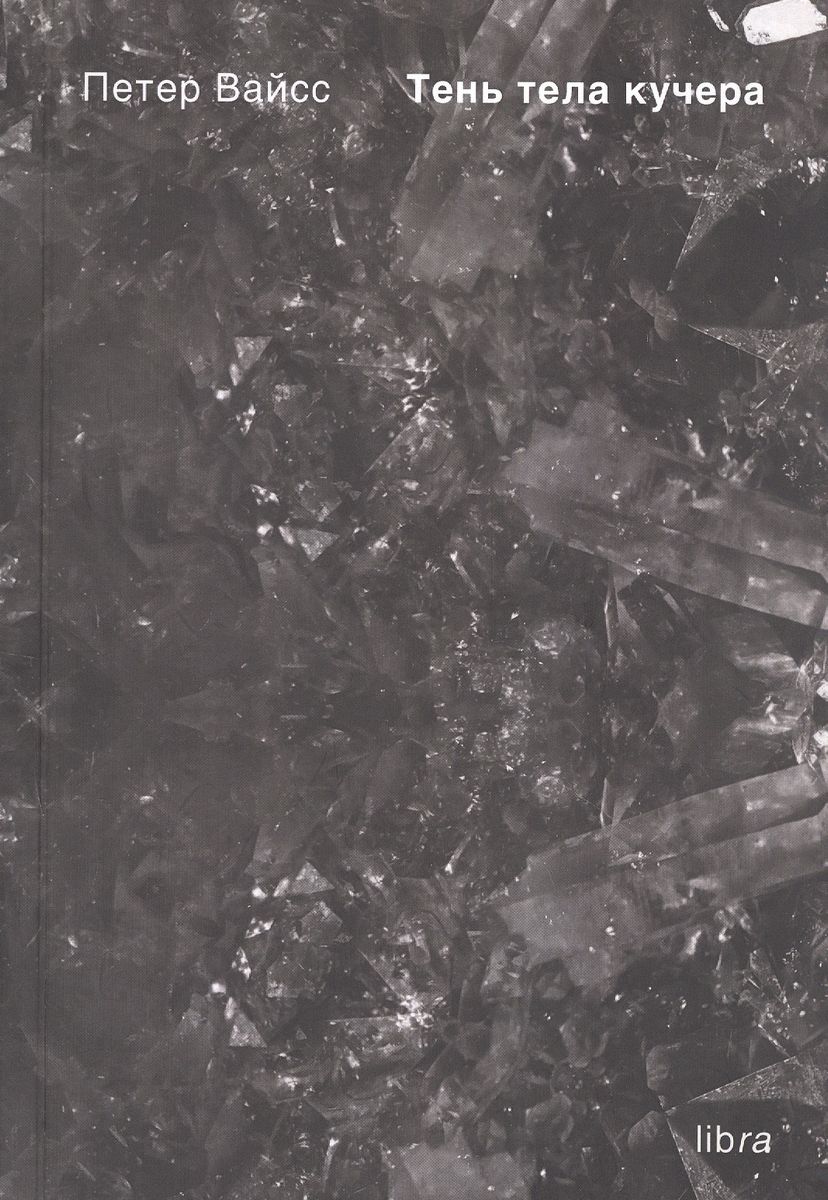Шрифт:
Закладка:
Петер Надаш (р. 1942) - прозаик, драматург, эссеист, широко известный за пределами Венгрии. В последние годы неоднократно фигурировал в качестве основных претендентов на Нобелевскую премию по литературе. Роман "Книга воспоминаний" вышел в 1986 году после пятилетней битвы с цензурой. На русский язык переводится впервые.Все истории этого романа - истории телесных взаимодействий. Поцелуй в будайском лесу в марте 1953 года - Сталин умер, и соглядатайство тут же обернулось долгими любовными взглядами. Коллективное тело пештской демонстрации в октябре 1956-го. Раздавленный поездом мужчина у седьмой железнодорожной будки между Гёрлицем и Лёбау - году примерно в 1900-м. Ночные прогулки вдоль берлинской стены зимой 1974-го. Запаянный гроб, пересекший границу между двумя Германиями несколько дней спустя. Все истории этого романа рассказаны из одной точки - точки сознания, которая даже в момент оргазма не прекращает мерцать, анализируя и связывая все происходящее в медленную разоблачительную летопись собственной гибели.Роман Надаша, пожалуй, самое удивительное духовное свершение последнего времени - произведение последовательное, прекрасное и радикальное... странная, на грани перверсии смесь, пародия и продолжение одновременно Пруста и Томаса Манна.Петер Эстерхази
Величайший роман современности и одна из самых великих книг XX века.Сьюзен Зонтаг
"Книга воспоминаний" охватывает Будапешт и Берлин, перекидывает мосты между настоящим и несколькими пластами прошлого. Она повествует о том, как во взлетах и метаниях формируется человеческий характер - а стало быть, рассказывает о любви, о влечении и отторжении, о противоречивости всякого чувства. Политика, в странах Восточной Европы, казалось бы, подмявшая под себя все без остатка, для этого писателя - лишь второстепенная тема; она интересует его как среда, в которой протекает частная жизнь, как проекция человеческих страстей и взаимоотношений.Frankfurter Allgemeine ZeitungКак всякий шедевр, "Книга воспоминаний" помогает понять и переосмыслить собственную нашу жизнь. Книга объемная, трудная, и читать ее можно только не торопясь.Эндре Бойтар