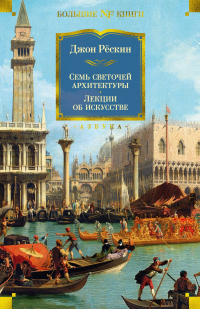Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга Дж. Гарта «Толкин и Великая война» вдохновлена давней любовью автора к произведениям Дж. Р. Р. Толкина в сочетании с интересом к Первой мировой войне. Показывая становление Толкина как писателя и мифотворца, Гарт воспроизводит события исторической битвы на Сомме: кровопролитные сражения и жестокую повседневность войны, жертвой которой стало поколение Толкина и его ближайшие друзья – вдохновенные талантливые интеллектуалы, мечтавшие изменить мир. Автор использовал материалы из неизданных личных архивов, а также послужной список Толкина и другие уникальные документы военного времени. Впервые публикуется на русском языке, с сохранением справочного аппарата оригинала.Для широкого круга читателей.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Джон Гарт»: