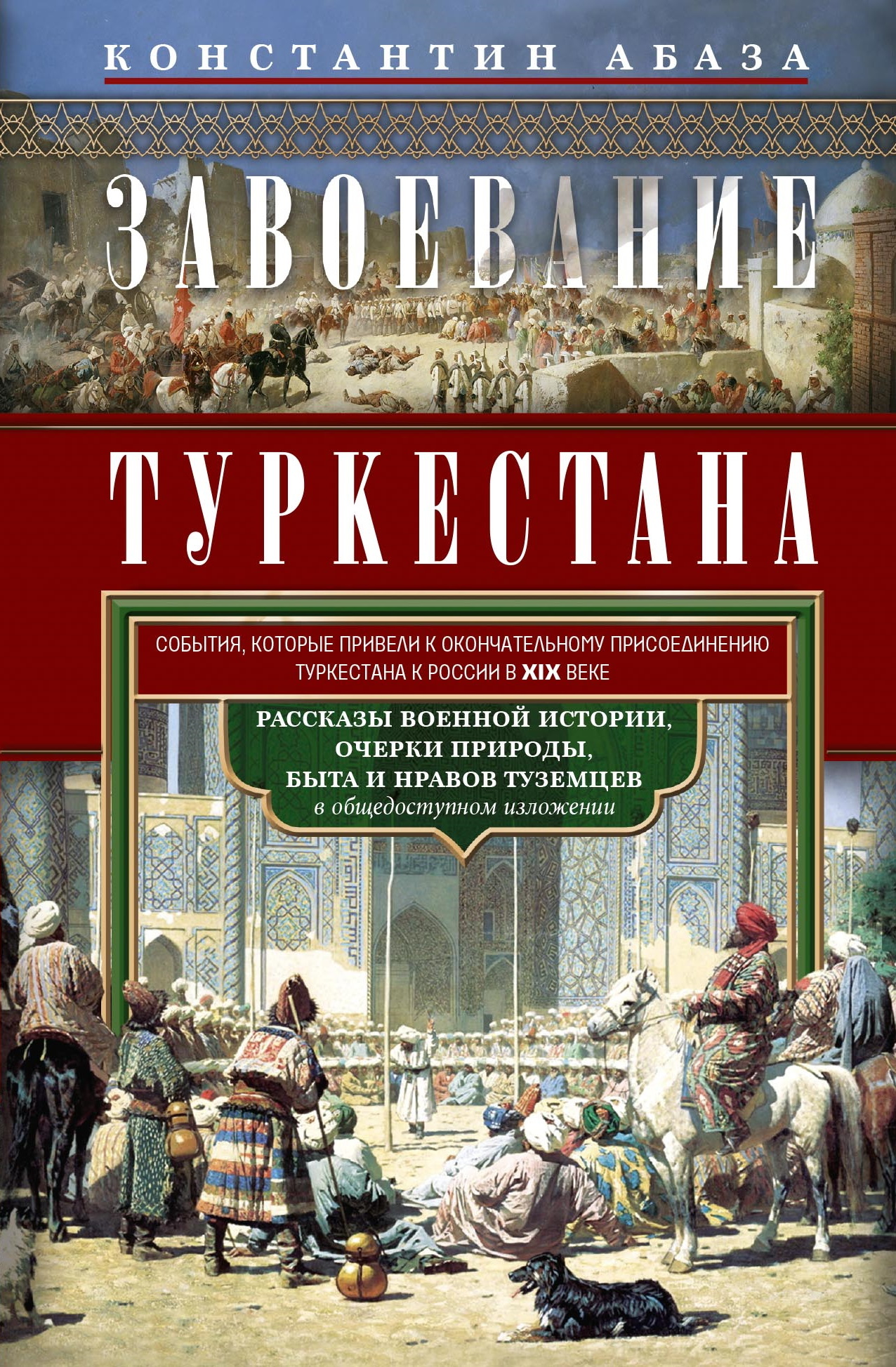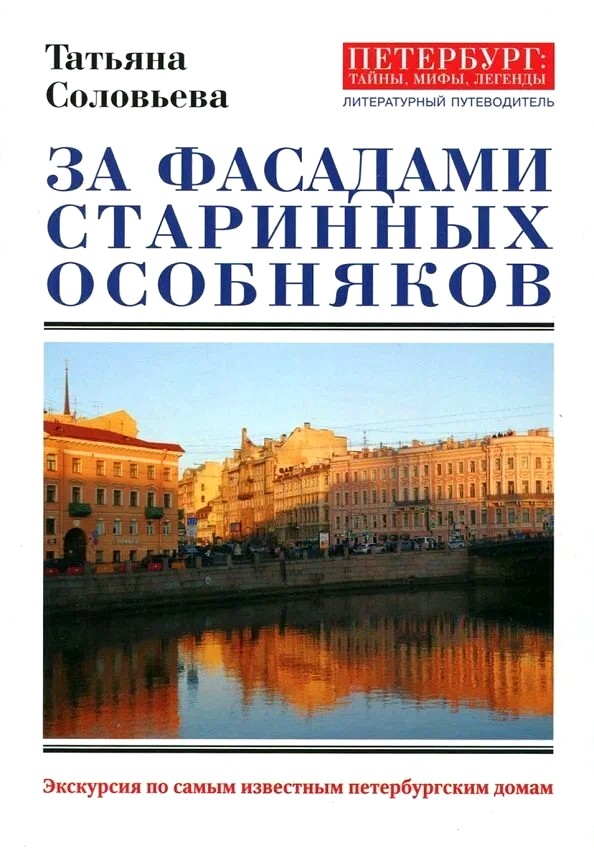Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В сборнике представлены отрывки из редко публиковавшихся мемуаров московских бытописателей. Читатель знакомится с характерным бытом и нравами населения торгового Китай-города, ремесленного Зарядья, дворянского Арбата, купеческого Замоскворечья и рабочих окраин. Книга воспроизводит живые, эмоционально окрашенные страницы истории Москвы и рассчитана на широкий круг читателей.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юрий Николаевич Александров»: