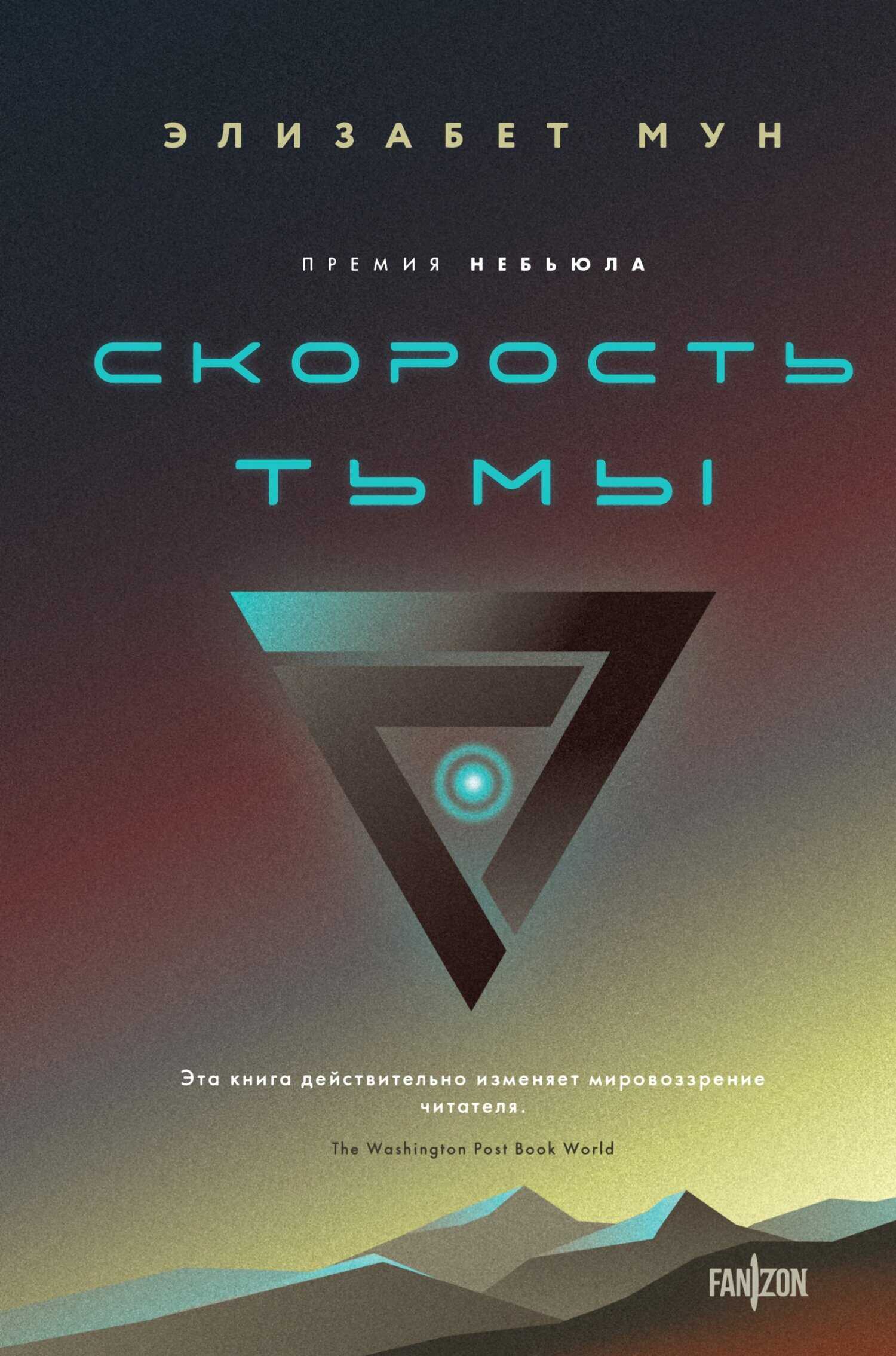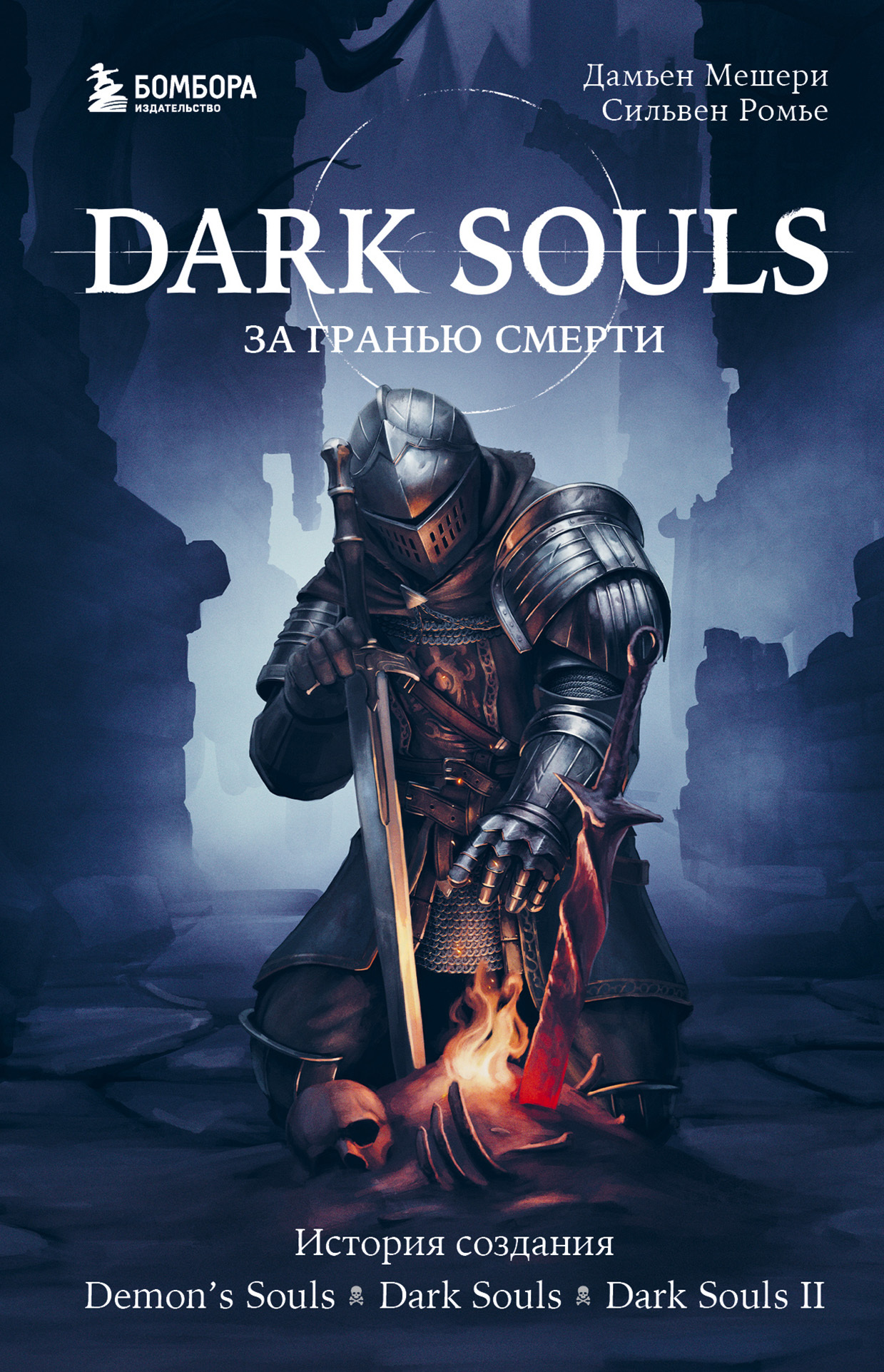Шрифт:
Закладка:
Захватывающее исследование сознания человека с аутизмом, который сталкивается со сложными и глубокими вопросами о сути человечности отчуждением в мире-утопии.Лауреат премии «Небьюла» 2004 г.Финалист премии Артура Ч. Кларка 2003 г.Номинация на премию «Локус» 2004 г.Номинация на премию Геффена 2005 г. (Израиль).Номинация на Большую премию Воображения 2007 г. (Франция).Номинация на приз Курда Лассвица 2008 г. (Германия).Недалекое будущее. Медицина продвинулась настолько, что врачи могут устранять любые генетические дефекты и наследственные болезни сразу при рождении человека. Но, к сожалению, есть целое поколение людей, которые появились до возникновения этой терапии. Общество учит их ладить со всем здоровым миром с помощью различных программ, но сделать их нормальными не может. До определенного момента.Лу Аррендейл – представитель этого потерянного поколения. Он ведет спокойную и независимую жизнь, не считая ежегодных визитов к психологу, имеет стабильную работу в фармацевтической компании, научился смотреть собеседнику в глаза, умеет учитывать вежливые условности в разговорах и делает все возможное, чтобы быть как можно более нормальным и не привлекать к себе внимания. Но теперь его спокойная жизнь оказывается под угрозой. Появляется новое экспериментальное лечение, позволяющее излечить взрослого человека от заболеваний аутистического спектра. После него Лу станет таким же, как и все вокруг. Но Лу задается вопросами – если он избавится от аутизма, останется ли самим собой? Будет ли по-прежнему любить классическую музыку? Видеть в мире те же цвета и узоры, оттенки и тона, недоступные другим? И, самое главное, будет ли он так же любить Марджори, девушку, которая, вероятно, никогда не ответит ему взаимностью, пока он болен?Лу предстоит решить, стоит ли ему соглашаться на операцию, которая может полностью изменить его мировоззрение… И саму его сущность.«Красивая и трогательная история… Писательница – мать подростка, страдающего аутизмом, и ее любовь к нему раскрывается в истории Лу. Он оказывает глубокое и неизгладимое влияние на читателя, показывая ему иной взгляд на мир». – The Denver Post«Время от времени попадается книга, которая одновременно является важным литературным достижением и полностью захватывает читателя – книга с провокационными идеями и не менее захватывающим сюжетом. Этот роман – именно такой». – Fort Lauderdale Sun-Sentinel«Великолепно и талантливо… Эта книга действительно изменяет мировоззрение читателя». – The Washington Post Book World«Увлекательное путешествие по темным граням подсознания, которое помогает понять самого себя». – The Seattle Times«Удивительное путешествие, которое погружает нас в сознание аутиста, оказавшегося перед страшным выбором: стать нормальным или остаться пришельцем на собственной планете». – Мэри Дориа Рассел